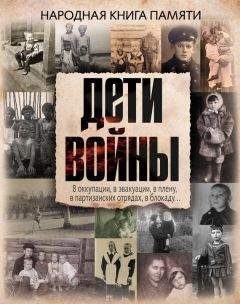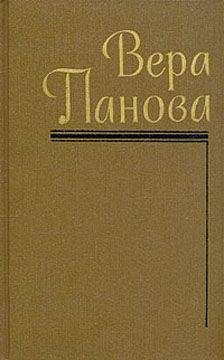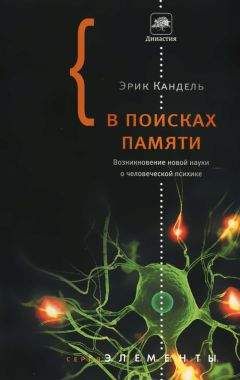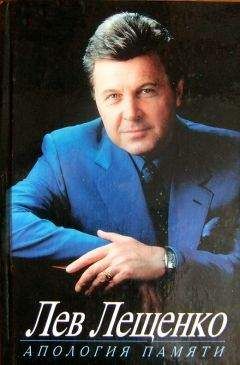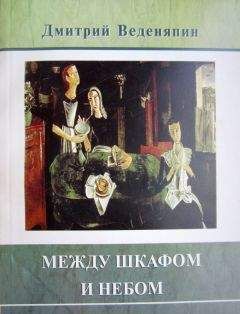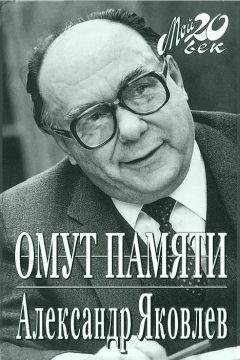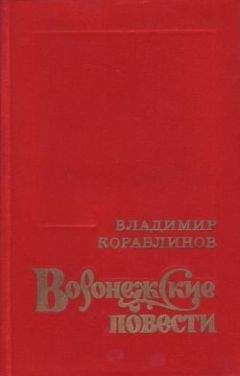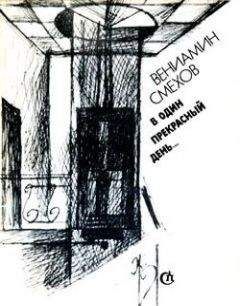Маргерит Юрсенар - Блаженной памяти
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Блаженной памяти"
Описание и краткое содержание "Блаженной памяти" читать бесплатно онлайн.
Ремо хотелось, чтобы получилось красиво, в данном случае это означает, что он хотел передать красоту, которую почувствовал в этих священных местах, но склад ума уводит его далеко от Шатобриана и Ренина, в грезы наяву или в одну из сказок немецких романтиков — наверно, он полюбил их в Веймаре. При свете луны ему кажется, что мраморное лицо статуи выражает несказанное страдание: ему чудится, что он узнает тройственную Гекату, чья небесная форма — Селена. Он высказывает предположение, что светило воплотило в себе душу богини, образ которой лежит у его ног, оживленный на миг лунным лучом. «Я, Геката, присутствую при собственном искуплении за кровь стольких невинных жертв».
Между молодым человеком 1864 года и той, кто случайно стала его внучатой племянницей и бродила в этих же самых местах незадолго до 1930 года, здесь прошли тысячи паломников; позднее им на смену явились толпы других; но многим ли из них приходила мысль о животных, которых каждый день приносили в жертву на этих мраморных алтарях, украшенных чистым ветвистым орнаментом? Эта общая забота роднит нас с Ремо. Однако вопреки тому, что, судя по всему, полагал Ремо, царство Гекаты не пришло к концу. За последнее столетие миллиарды животных были принесены в жертву науке, ставшей богиней, а из богини — кровавым идолом, как это почти неизбежно случается с богами. Животных медленно душат, ослепляют, сжигают, заживо вспарывают, в сравнении с такой смертью жертвоприношения древних кажутся невинными, как в сравнении с нашими бойнями, где живых животных подвешивают так, чтобы облегчить убийство по конвейеру, кажутся относительно чистыми деревянный молоток гекатомб и жертвы, украшенные цветами. Что до человеческих жертв, которые греки относили к легендарным временам, в наши дни во имя родины, расы, класса их более или менее повсюду приносили тысячи людей, убивая миллионы других. Невыразимая печаль мраморного лица должна была усугубиться.
С Октавом, фигурой более расплывчатой, мои связи определить труднее. Я свысока оценила его страстное стремление показать окружающим лишь ту сторону своей натуры, которую он считал лучшей, — в двадцать лет я бы его поняла. Мои честолюбивые мечты выражались тогда в желании остаться анонимным автором (в крайнем случае, автором, которого знают только по имени и двум датам, может быть, даже неточным) пяти-шести сонетов, вызывающих восхищение десятка читателей в каждом поколении. Очень скоро я отказалась от подобных мыслей. Литературное творчество — это поток, который захлестывает все; в этом потоке личные сведения о нас — не более, чем отстой. Тщеславие писателя или его скромность мало что значат перед великим явлением природы, которое в нем разыгрывается. И, однако, в сравнении с болезненным эксгибиционизмом нашего времени скрытность Октава, тоже болезненная, мне симпатична.
Навострив уши, слушаю я некоторые его рассуждения об истории: в лучшем случае она для него образец, чем она была для многих светлых умов прошлого и чем в тяжелые минуты вновь становится для нас. Однако я улавливаю в его отношении к ней и более личную нотку. Сидя на ступенях Колизея, он думает о юных христианах, которые, говорят, были здесь замучены, и его терзает мысль о том, что страдания множества молодых безымянных жертв, в каком-то смысле объединенных прекрасным образом Святого Себастьяна, навсегда останутся для него предметом обобщенной жалости, ему невозможно прочувствовать каждую из этих давних агоний в отдельности. Сходная волна печали накатывает на него, когда он думает о неизвестных людях, своих современниках, которых мог бы полюбить, но которых ему никогда не встретить среди миллионов обитателей земли. Историк-поэт и романист, каким я пыталась стать, пробивает брешь в этой невозможности. Октав такой попытки не сделал, но мне мил в нем этот жест — протянутые руки.
В каждом совпадении есть элемент чуда. Посетив в 1865 году галерею Уффици, Октав мимоходом отмечает картины, которые произвели на него самое большое впечатление. Его вкусы несколько отличаются от наших, ведь эстетика — это вечные качели. Октав еще восхищается академической живописью, тогда в полной славе: Доминикино, Ле Гверчино, Ле Гвидо и одновременно «лучезарным реализмом» Караваджо, всем тем, что будут хулить два-три последующих поколения и что в наше время начинает цениться вновь. Ему уже нравится Боттичелли, перед которым в ближайшие пятьдесят лет люди будут почти до неприличия млеть. Но особенно подробно, посвятив ему целую страницу, он описывает произведение одного из тех примитивов, которых он еще рассматривает как очаровательно неумелых, а именно «Фиваиду Египетскую», в ту пору приписываемую Лаурати, а позднее разным другим художникам. Это та самая картина, с фотографией которой — полуиконой, полуталисманом — я не расставалась лет двадцать. На чистом и пустынном фоне, где, однако, виднеется здесь тосканская роща, а там часовня, отличающаяся скупым флорентийским изяществом, мистические монахи приручают газелей, танцуют с медведями, запрягают тигров, пускают иноходью послушных оленей; они беседуют со львами, которые, когда жизнь монахов придет к концу, погребут их в песке; они живут в повседневном общении с зайцами, цаплями и ангелами. Меня пленяет мысль, быть может, наивная, что этот образ, в моих глазах олицетворяющий совершенную жизнь, для «дяди Октава» олицетворял жизнь ангельскую.
Летом 1879-го, а может быть, 1880 года поэт в элегантном костюме из белого репса и несомненно в соломенной шляпе, привезенной из Италии, идет по берегу Хейста. Именно в этот маленький рыбацкий поселок на побережье Западной Фландрии поместила я эпизод из «Философского камня», когда Зенон, спасаясь от западни, которой стал для него Брюгге, делает попытку перебраться в Англию или Зеландию, но отказывается от нее из отвращения к низости, двойной игре и непробиваемой глупости тех, кто предлагает помочь ему бежать. В свое время, склонившись над дорожной картой Фландрии, я искала точки, наиболее близкие к Брюгге, откуда беглец мог, не опасаясь слишком бдительного надзора, пуститься в плавание и куда было бы под силу дойти пешком хорошему ходоку пятидесяти восьми лет. Мне надо было также избежать названий, которые слух воспринимает, как рекламные объявления о тех местах на берегу моря, где можно недорого провести отпуск: Вендёйне, Бланкенберге, Остенде. Хейст звучал явно по-фламандски и в то же время не вызывал туристических ассоциаций и был, как я и хотела, достаточно близко к Брюгге. Тогда, само собой, я еще не знала, что за восемьдесят лет до того Октав с матерью, презирая рулетку и кокоток с модных пляжей, избрали для летнего отдыха эту захолустную дыру.
В 1880 году это место едва ли изменилось по сравнению с XVI веком. Была, однако, построена плотина, sine qua non [Здесь: непременная принадлежность (лат.)] водного курорта. И нетрудно представить себе там музыкальный павильон. Кокетливые виллы еще не испортили берег. «Пляж почти безлюден. По вечерам десятъ-двенадцать рыбачьих лодок бросают в песок свои якоря, выгружая странной формы рыб, которых таит в себе океан. По утрам на пляж выкатывают кабинки, и оттуда спускаются в воду купальщицы. Молодые иностранки, которые только что прогуливались по плотине в своих элегантных туалетах, теперь борются с огромными пенистыми волнами». Купальщицы чаруют Октава, потому что пугливые детские движения выдают их слабость.
Оставив мать в кресле-кабинке, где она может вкусить положенную — и не более того — дозу целебного морского воздуха, Октав в одиночестве следует за отступившей волной. Он хочет, по его словам, «услышать, как трепещет водная ширь». Он печален. Стараясь не замочить обувь, он аккуратно обходит большие сверкающие лужи, оставленные отливом несколько часов назад. Он не любит моря. (Я уверена, что психоаналитики жадно набросятся на это замечание, которое, однако, звучит игрой слов только по-французски, где «море» и «мать» омонимы). «О, бедный поселок Хейст! Как ты угрюм, как бледно твое море!» Октав надеется, что скоро с ним рядом будет Жозе, который обещал приехать через несколько дней — дружеское присутствие поможет ему сносить зрелище волн. «Природа гложет свою узду; она недовольна своей судьбой; она надеется разбить невидимые ковы, наполняя душу наблюдателя глубокой тревогой. Зрелище этой громады рабства отвлекает человека от страданий его братьев; социальная несправедливость, частные утраты тускнеют в его глазах. В конце концов он может дойти до того, что признает право за силой... Морю приписывают благородство, но я его не вижу. Я вижу только свирепость, горячку и смену дерзких наскоков, падений и отступлений». Во взбаламученной материи, обрушивающейся на волнолом, Октав угадывает ненасытность толпы, состоящей из множества чудовищ.
Вдруг в недвижном полдневном свете сквозь Октава и сквозь молодых англичанок, не видя их, проходит человек в потрепанной одежде. Aqua permanens [вечная вода (лат.)] . Пугающая Октава громада воды для него очистительна. Волна и ее беззлобная мощь, бесконечность, заключенная в каждой струйке песка, безупречный изгиб каждой раковины являют ему математически совершенный мир, который служит противовесом другому, жестокому миру, в котором он вынужден жить. Он раздевается; в эту минуту он — не человек XVI века, а просто человек, худощавый и сильный, уже немолодой, с мускулистыми руками и ногами, с выступающими ребрами, с седыми волосами внизу живота. Он вскоре умрет жестокой смертью в тюрьме Брюгге, но эта дюна и этот гребень волны — абстрактное место его подлинной смерти, то место, где он вычеркнул из своего сознания мысль о бегстве и о компромиссе. Линии пересечения между этим обнаженным человеком и господином в белом костюме сложнее линий часовых поясов. Зенон оказался в этом месте на земле почти день в день за три века, двенадцать лет и один месяц до Октава, но я создам его на сорок с лишком лет позднее, а эпизод купанья на берегу Хейста придет мне в голову только в 1965 году. Этих двух людей, того, кто невидим, еще не существует, но от кого неотделимы одежда и аксессуары XVI века, и того денди 1880 года, который через три года станет призраком, связывает единственная нить — маленькая девочка, которой Октав любит рассказывать разные истории, и которая носит в себе, только как некоторую микроскопическую возможность, частицу того, что станет однажды мной. Ну а Ремо, он тоже присутствует где-то здесь, в этой сцене, крохотным волоконцем в сознании меланхолического старшего брата. За восемь лет до этого он пережил кровавую агонию, сравнимую с той, что выпала на долю человека из 1568 года, правда, более короткую, но узнаю я о ней лишь в 1971 году. Время и даты, подобно солнечным лучам отражаются от луж и песчинок. Мои взаимоотношения с этими тремя людьми просты. К Ремо я испытываю чувство пронзительного уважения. «Дядя Октав» иногда раздражает меня, иногда трогает. Но Зенона я люблю, как брата.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Блаженной памяти"
Книги похожие на "Блаженной памяти" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Маргерит Юрсенар - Блаженной памяти"
Отзывы читателей о книге "Блаженной памяти", комментарии и мнения людей о произведении.