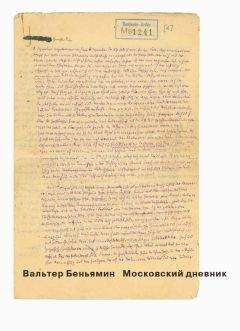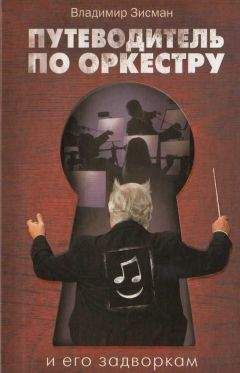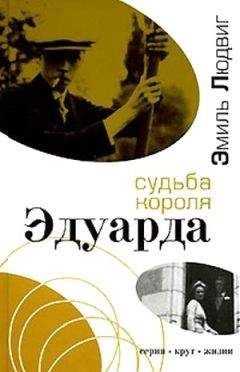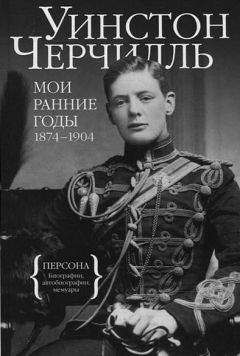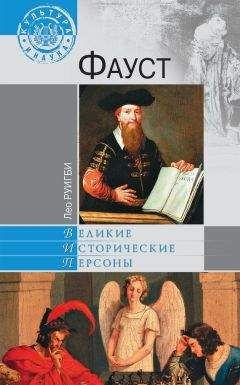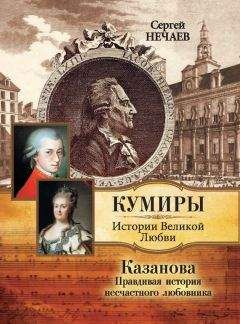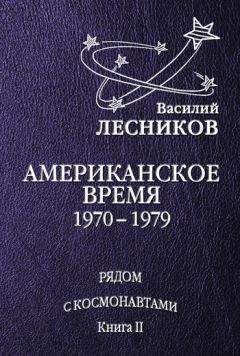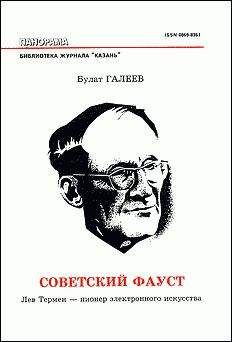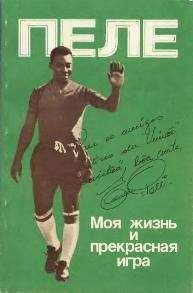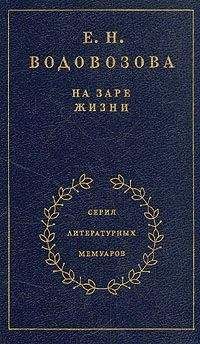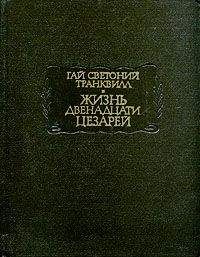Иоганн Эккерман - Разговоры с Гете в последние годы его жизни

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Разговоры с Гете в последние годы его жизни"
Описание и краткое содержание "Разговоры с Гете в последние годы его жизни" читать бесплатно онлайн.
Многолетний секретарь Иоганна Вольганга Гёте Иоганн Петер Эккерман (1792–1854) долгие годы вёл подробнейшую запись своих бесед с великим немецким поэтом и мыслителем. Они стали ценнейшим источником для изучения личности Гёте и его взглядов на жизнь и литературу, историю и политику, философию и искусство. Книга Иоганна Эккермана позволяет нам увидеть Гёте вблизи, послушать его, как если бы мы сидели рядом с ним. В тоже время, Эккерман не попадает в ловушку лести и угодничества. Его работа отмечена желанием быть как можно более объективным к великому современнику и в тоже самое время глубокой теплотой искренней любви к нему…
Широкий охват тем, интересовавших Гёте, добросовестность и тщательность Эккермана помноженные на его редкостное литературное мастерство, сделали эту книгу настоящим памятником мировой культуры.
Но некоторых «соображений по поводу» нам все же не избежать: Гёте был первым выдающимся критиком немецкого идеализма, — утверждение, еще ждущее компетентного исследования.
Попытку Ганса Георга Гадамера провозгласить Гёте философским предтечей Ницше и той критики, которой этот философ подвергал наследие великих немецких идеалистов, необходимо решительно отвергнуть. Не можем мы также согласиться и с теми, кто ставят знак идейного равенства между «Фаустом» и Гегелевой «Феноменологией духа». При всем величии Гегеля как мыслителя и диалектика он все же был прямым отрицателем Гётевской идеи всемирно-исторического развития. То, в чем видит Гегель завершение динамического процесса всех свершений и всего мышления, понимаемого метафизически (не субъективно-человечески), по сути, упраздняет процессуальный характер такового; ибо в этом «завершении», по мысли автора «Феноменологии духа», все «начала и концы» должны метафизически совпасть друг с другом; ничто из однажды свершившегося не должно здесь утратиться, как ничто из воспоследовавшего не могло отсутствовать уже в его начале. «Сдается, — так пишет Гегель, — что мировому духу ныне удалось стряхнуть с себя всю чуждую ему предметную сущность и наконец-то познать себя как абсолютную духовность… Борьба конечного самосознания с абсолютным, каковое представлялось конечному самосознанию вне его существующим, тем самым прекращается. Вся мировая история и, в частности, история философии, олицетворявшие эту борьбу, ныне оказались у цели, где абсолютное самосознание перестало быть чуждым. К этой точке подошла современность, и на этом иссякла чреда новых духовных формаций».
В Гегелевой системе такое ограничение себя незыблемым «по сути — настоящим», такой всемирно-исторический застой заступил место не знающего покоя движения. Вся философия Гегеля (по крайней мере, в аспекте его понимания роли государства) преобразилась в философию застоя. Эта обнажившаяся тенденция Гегелевой философии тесно соприкасается с теориями историков французской Реставрации; ведь и они провозглашали конец процессуального характера истории, прекращение классовой борьбы, поскольку (как они полагали) отныне на арене истории остался «всего лишь один класс — третье сословие», которому «не с кем» больше бороться. Эта историческая концепция означала решительный «шаг назад» по сравнению хотя бы с учением такого мыслителя, как Шарль Луазо — le Parisien (Парижанин), еще в XVII веке говорившего о «третьем сословии» — как о «конгломерате самых разных сословий» и причислявшего крупную буржуазию к привилегированным слоям феодально-монархической Франции.
Что общего имеет это идеализированное Гегелем обретение вожделенного покоя «мировым духом» с положенной в основу «Фауста» философией обретенного пути к высокой цели гармонического общественного устройства? Под динамическим процессом, как явствует из сказанного, Гёте понимал созидание вечно-нового и лучшего. Любое государственное устройство, любой общественный уклад не мыслились им как нечто «законченное», «навсегда установившееся». «Время никогда не стоит, жизнь постоянно развивается, человеческие взаимоотношения меняются каждые пятьдесят лет, — говорил Гёте Эккерману. — Учреждение, которое в 1800 году казалось совершенным, в 1850 году может оказаться пагубным».
Но возвратимся к скромному систематизированию избыточного духовного богатства Гёте, отраженного достаточно внятно на страницах книги Эккермана. Всегда относившийся несколько беспечно к терминированному языку философов, Гёте часто вкладывал в понятия, принятые в определенной философской школе, смысл, далеко не адекватный смыслу того или иного философского термина. Уже понятия «рассудок» и «разум» у Гёте неоднозначны кантовскому употреблению этих терминов. Кант, к примеру, никогда бы не отнес минералогию, имеющую дело с «мертвой» («неорганической») природой, к области знания, всецело подчиненного «рассудку»; морфологию же «живого» органического мира — к компетенции «разума».
Еще меньше соприкасается с философским мировоззрением Канта Гётевская трактовка гносеологической проблемы познаваемости и непознаваемости мира. Учение Канта о непознаваемости «вещей в себе» принижало достоинство разума во имя вящего торжества веры, которая, опираясь на чисто субъективные доводы «практического» нравственного сознания, декларирует метафизическое бытие бога, души и бессмертия. Гёте, в принципиальном отличии от «кенигсбергского мудреца», прибегал к формуле агностицизма с совсем другой целью: он стремился оградить познание природы от покушений как со стороны мистицизма церковников, так и со стороны скороспелого («априорного») рационализма. «Я хочу вам кое-что сказать, — поучает Гёте Эккермана, возвращаясь с прогулки в экипаже по окрестностям Веймара. — В природе имеется доступное и недоступное, — это следует различать, понять и уважать, хотя очень трудно усмотреть, где начинается другое. Тот, кто этого не знает, иногда мучается всю жизнь, стремясь постичь непостижимое, и при этом ничуть не приближается к истине. Тот же, кто это знает, — остается в пределах постигаемого; исследуя эту сферу во всех направлениях… он может кое-что отвоевать и у непостижимого, хотя ему придется в конце концов признать, что здесь многое может быть понято лишь до известной границы и что природа всегда таит в себе нечто проблематическое, не поддающееся разгадке силами человеческого разума».
Какая философская небрежность в изложении этих глубоких мыслей! «В природе имеется доступное и недоступное»; и ниже: «…природа всегда таит в себе нечто… не поддающееся разгадке силами человеческого разума», — это ли не чистейший агностицизм?
Но всерьез ли он утверждается, ежели «очень трудно усмотреть, где кончается одно (постижимое) и где начинается другое (непостижимое), и если можно кое-что отвоевать и у непостижимого»? Что общего имеют эти рассуждения с агностицизмом Канта, строго противопоставляющим познаваемость «явлений» непознаваемости «вещи в себе»? И разве Гёте в той же беседе не говорил; «Я вывожу из этого (из отклонений от основного закона его теории ветров.—Н. В.), что здесь наличествуют сопутствующие обстоятельства, которые еще не вполне выяснены». Что в свете этих могучих антитез может еще значить теза о несостоятельности усилий «постичь непостижимое», как не протест против бесплодного фантазирования (мистического или априорно-рационалистического) вокруг проблем, неразрешимых в силу невыясненности «сопутствующих обстоятельств»? Но, все с той же теоретической беспечностью, Гёте подчас ронял такие банальные ходовые максимы агностицизма, как; «разум человека и разум божества — это различные вещи», или: «нехорошо… прикасаться к божественным тайнам». Все это не всерьез, конечно! Но нельзя приписывать истинную силу познания только божественному разуму, не прослыв агностиком.
В том-то, однако, и беда, что Гёте был вполне равнодушен к тому, кем слыть в «философском мире». Не без вызова заявлял он, что искусство и наука вполне довольствуются «здравым смыслом, не справляясь с учениями философов». «Я стараюсь не придавать решающего значения идеям, в основе которых отсутствует чувственное восприятие», — говорил он в развитие этой мысли (в беседе с Фальком). Но читатель ошибется, если на основании такого заявления сочтет Гёте убежденным эмпириком. Вразрез, а по сути, в диалектическом единомыслии со сказанным, Гёте утверждает, что «без высокого дара (воображения.—Н. В.) нельзя себе представить истинно великого естествоиспытателя». Не солидаризуется ли он тем самым с философским интуитивизмом Шеллинга, с его учением об «интеллектуальном воззрении», при котором переход от «интелли-гибельного бытия» к «бытию эмпирическому», собственно, невозможен?
Нисколько! Резко противопоставляя свой метод познания шеллинговскому «панлогизму», Гёте поясняет: «Я говорю, конечно, не о такой силе воображения, которая действует наугад и создает всякого рода несуществующие вещи; я разумею силу воображения, не покидающую реальной почвы действительности и с масштабом Действительности и ранее познанного подходящую к вещам чаемым и предполагаемым». Иными словами, здесь речь идет об «обширном и спокойном уме» ученого, о его таланте устанавливать, не стоит ли «чаемое в противоречии с другими, уже раскрытыми законами». Только и всего! И если Гёте тем не менее нет-нет да и прибегает к формулам агностицизма и подчеркивает свою солидарность с Кантом, то это отчасти объясняется его «старческой терпимостью», а также тем, что «его Кант» — не исторический Кант, а Кант, им же переосмысленный.
В вопросах религии терпимость Гёте носила, пожалуй, наиболее внешний, «дипломатический» характер. Так, Гёте в беседе с Эккерманом говорит, что на вопрос, соответствует ли его натуре преклонение перед Христом, он (подобно Фаусту) ответил бы: «Конечно! Я склоняюсь перед ним как перед божественным откровением, высшим принципом нравственности». Церковники могли бы откликнуться на это признание словами Маргариты:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Разговоры с Гете в последние годы его жизни"
Книги похожие на "Разговоры с Гете в последние годы его жизни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Иоганн Эккерман - Разговоры с Гете в последние годы его жизни"
Отзывы читателей о книге "Разговоры с Гете в последние годы его жизни", комментарии и мнения людей о произведении.