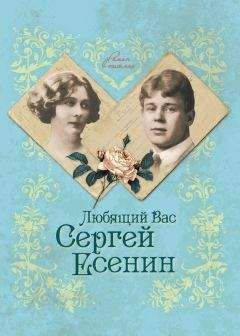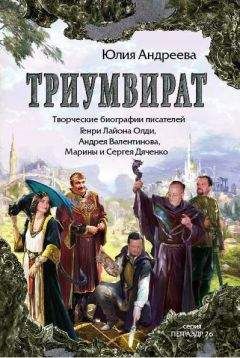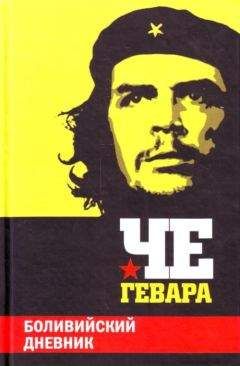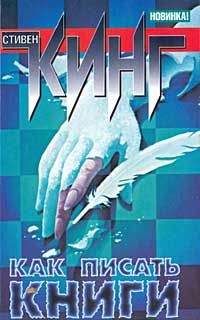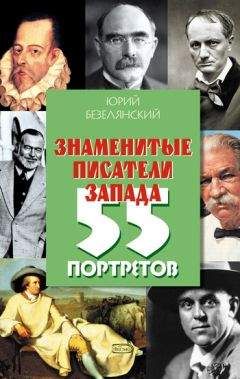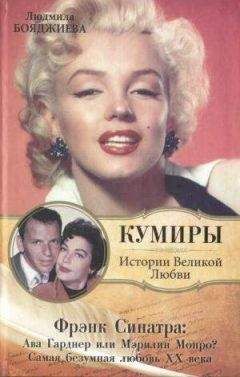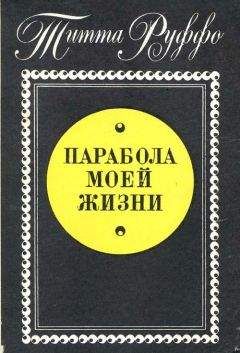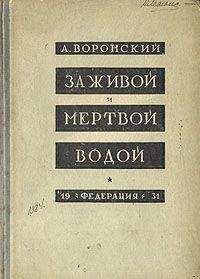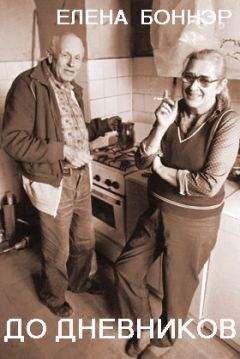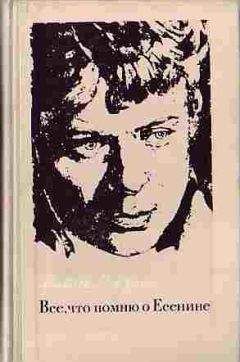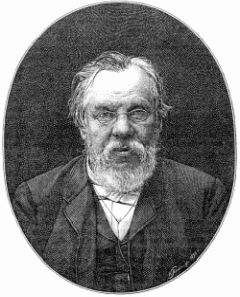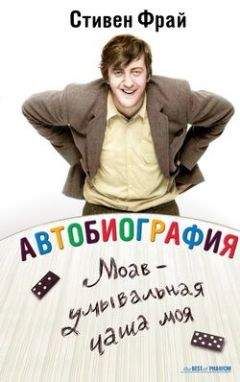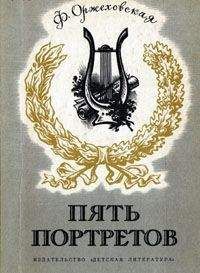Сергей Чупринин - Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета
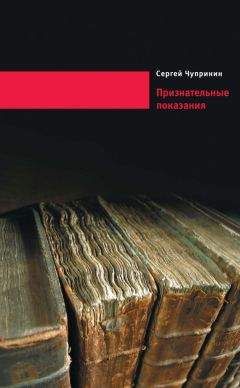
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета"
Описание и краткое содержание "Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета" читать бесплатно онлайн.
В эту пеструю, как весенний букет, книгу вошли и фундаментальные историко-литературные работы, и мемуарные очерки, и «сердитые» статьи о том, как устроена сегодняшняя российская словесность, известный критик, главный редактор журнала «Знамя», как и положено, внимательно разбирает художественные тексты, но признается, что главное для него здесь — не строгий филологический анализ, а попытка нарисовать цельные образы писателей, ни в чем друг на друга не похожих, понять логику и мистику их творческого и жизненного пути. Вполне понятно, что в этой галерее портретов и пейзажей находится место и автопортретам, так что перед нами — самая, может быть, исповедальная и самая «писательская» книга Сергея Чупринина.
Стоит только дать волю грезе — и начинается карнавальная смена то ли масок, то ли жребиев: «Я конквистадор в панцире железном…», «Однажды сидел я в порфире златой, Горел мой алмазный венец…», — «…я забытый, покинутый бог, Созидающий, в груде развалин Старых храмов, грядущий чертог», «Я — попугай с Антильских островов…», «Древний я отрыл храм из-под песка, Именем моим названа река, И в стране озер пять больших племен Слушались меня, чтили мой закон»…
Так в ранних, юношеских стихах Гумилева. Но та же воля к преображению и реальности, и самого себя, то же искушение «многомасочностью», как сказали бы литературоведы, лирического героя — и в поздних творениях поэта. Разница лишь в том, что молодому Гумилеву эта череда перевоплощений, вживаний в незнакомый и часто экзотический душевный облик доставляла одно только, кажется, чистое наслаждение, лишь изредка, для «романической интересности» декорируемое в цвета и тона «мировой скорби». Но то, что в юности виделось — да в известной степени и было — игрой, в зрелости стало основой истинно трагического мироощущения.
И трагизм этот, столь мощно покоряющий читателя последних книг Гумилева, вызван, думается, не только и не столько внутренней эволюцией поэта, сколько лавинным течением событий в обступавшей его действительности. Или, иными словами, за эволюцией грозно угадывается революция.
Гумилев — и уже в этом его исключительность — ни полусловом не откликнулся на революцию, Гражданскую войну, пореволюционное переустройство жизни, ни полусловом не поддержал, не оспорил действия новой власти. У него нет стихов, ни озвученных «музыкой Революции» (хотя он активно работал в первых советских учреждениях культуры — в Союзе Поэтов, в издательстве «Всемирная литература» т. п.), как у Блока, Брюсова, Маяковского или Пастернака, ни навеянных романтикой Белого движения (хотя убежденным монархистом он оставался, кажется, до конца), как у Цветаевой, ни даже вызванных тщетной надеждой остановить братоубийство примиряющим словом, как, допустим, у Волошина.
У Гумилева вообще нет политических стихов. Он уклонился от прямого диалога с современностью. Он отказался говорить на ее языке. Он — так, во всяком случае, кажется на первый взгляд — промолчал о том, что творилось со страной и народом в огненное пятилетие 1917–1921 годов. Но…
Действительность была такова, что и молчание осознавалось и истолковывалось (учениками, читателями и, конечно же, властью) как акт гражданского выбора, как недвусмысленная политическая позиция. У стремления быть всего лишь вежливым «с жизнью современною» — одна цена в 1912 году, когда писались эти строки. И совсем иная — в дни, одним представлявшиеся концом всемирной истории, а другим — только ее началом. В «Слове», в «Памяти», в «Заблудившемся трамвае», в «Шестом чувстве», в «Звездном ужасе», в других вершинных созданиях Гумилева с явственностью угадывалось то, что и было вложено, впрессовано в них поэтом, — мужество неприятия, энергия сопротивления.
В этом смысле Гумилев — и именно Гумилев, не написавший ни строки, которая могла бы быть названа «антисоветской», вернувшийся в Россию тогда, когда его единомышленники уже покидали ее, не участвовавший ни в Белом движении, ни в контрреволюционных заговорах — был обречен. Его гибель, при всей ее кажущейся случайности и трагической нелепости[20], глубоко закономерна.
По-другому и не мог покинуть земную юдоль поэт, вознесший над нею «огненный столп» (как выразительно, как многозначно это название предсмертной книги Гумилева!), всем своим творчеством, всей своей жизнью доказавший собственную несовместимость с тем, какой стала и какой обещала стать жизнь в Советской России.
4
Но — перед тем как уйти — он написал стихи, его обессмертившие, выдержавшие испытание и клеветой, и затянувшимся едва ли не на семь десятилетий замалчиванием.
В этих стихах — все то же, что раньше было присуще поэту. И все — другое, так как энергия неповиновения жизни — прежде оно казалось милым чудачеством, а теперь стало смертельно опасным, едва ли не идеологическим вызовом — насытила строку, а необходимость сопротивляться обстоятельствам, их чугунному напору удесятерила творческие силы поэта, открыла в нем возможности, о которых он и сам, наверное, не подозревал. Так что и Гумилев, ни полсловечка не проронивший в стихах о революции, исключивший политику из своего творчества, многим обязан именно как поэт общенациональному потрясению.
«Взлет поэзии Гумилева в три последних года его жизни нисколько не случаен: споря со своим временем и противопоставляя себя ему, он оставался его сыном — и верным сыном, как всякий большой художник», — пишет Вяч. Вс. Иванов, автор статьи «Звездная вспышка», лучшей из того, что появилось о Гумилеве в недавние годы, и с этой оценкой нельзя не согласиться.
Былой индивидуализм и, может быть, даже эгоцентризм поэта предстал в новых стихах и новом времени как своего рода охранная грамота всем, кому честь дороже жизни, кто сам выбирает свою судьбу, не кивая на обстоятельства, не передоверяя решение внешним — пусть и необоримым — силам. То, что обособляло, выделяло Гумилева из круга современников, стало паролем незримого и часто потаенного братства, стало Словом, вокруг которого можно объединяться. Ребяческая бравада сошла на нет, «маски», с такой охотой примерявшиеся Гумилевым, слились в единый образ поэта, который знает, зачем и к кому он обращается:
Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, веселой и злой,
Возят мои стихи в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.
Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержание выеденного яйца,
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать что надо.
…………………………………………………………….
А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелет взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю,
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.
Романтическая удаль, геройство и теперь не чужды поэту, но теперь они уже не самоцельны, как в молодые годы, а подчинены задачам духовной самореализации, вобраны в понятие подвига, служения — тем более ответственного, чем более обреченного. «Рыцарь счастья» осознал себя «рыцарем долга», былая куртуазность и былая кичливость сменились истовой молитвенностью, а светские ритуалы — магическими обрядами.
Всю свою жизнь прославлявший «упоение в бою и бездны мрачной на краю», Гумилев впервые, кажется, воочию ощутил, сколь близка эта «бездна», и его стихи последних лет, его поэмы «Звездный ужас», «Дракон» наполнились жуткими эсхатологическими видениями, в красивых и красочных, как встарь, легендах и сказках поэта обнаружился глубинный философский подтекст, благодаря чему «снотворчество» возвысилось до мифотворчества, и с таким трудом добытая Гумилевым в период ученичества «прекрасная ясность» лирического высказывания уступила черед «высокому косноязычью», грозным — при всей их смутности и «темности» — пророчествам.
Внутреннему взору поэта, устремленному «сквозь бездну времен», открываются теперь не столько начальные страницы Книги Бытия, сколько главы Апокалипсиса, и неразъемная цепь связует в этом смысле фантасмагорию «Заблудившегося трамвая» с «антиутопией» из «Шатра»:
И, быть может, немного осталось веков,
Как на мир наш, зеленый и старый,
Дико ринутся хищные стаи песков
Из пылающей юной Сахары.
Средиземное море засыпят они,
И Париж, и Москву, и Афины,
И мы будем в небесные верить огни,
На верблюдах своих бедуины.
И когда, наконец, корабли марсиан
У земного окажутся шара,
То увидят сплошной золотой океан
И дадут ему имя: Сахара.
Но внутреннему взору поэта с особенной отчетливостью, как бриллианты и сапфиры на фоне черного бархата, как мерцающие звезды на ночном небе, открылось в эти дни, в эти годы и совсем иное — красота природы, счастье любви, достоинство искусства, благодать Слова — и поэтического, и Божьего.
Именно прощаясь с жизнью, написал Гумилев свои самые светлые, самые пронзительные стихи о любви. Именно провидя свой горестный конец, научился шутить, что никак не давалось ему раньше. Именно «у гробового входа» он с ласковой улыбкой оглянулся на собственное детство, и тенью не возникавшее в прежних его стихах.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета"
Книги похожие на "Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Чупринин - Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета"
Отзывы читателей о книге "Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета", комментарии и мнения людей о произведении.