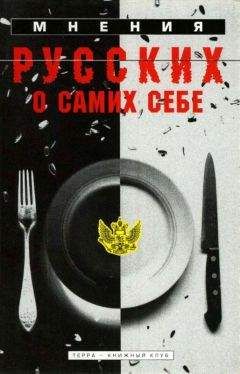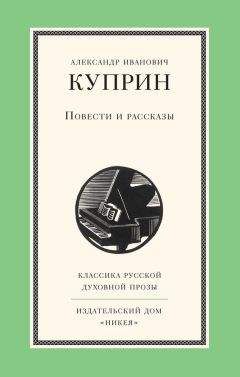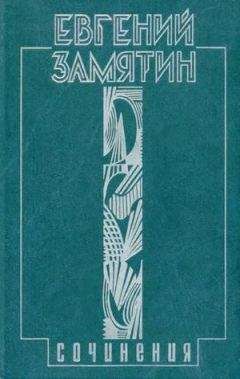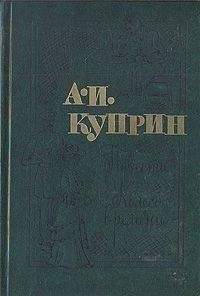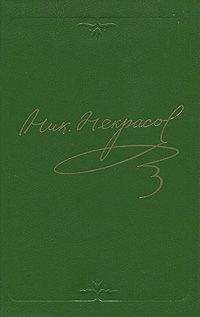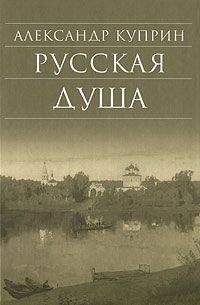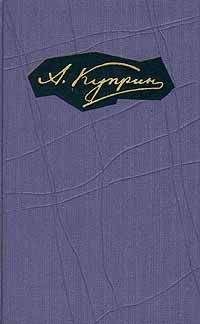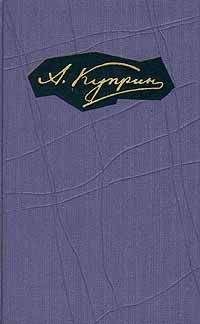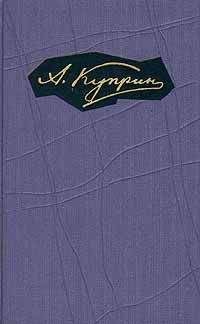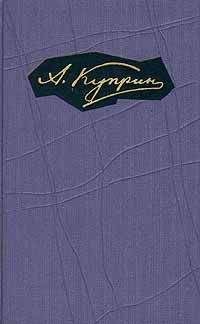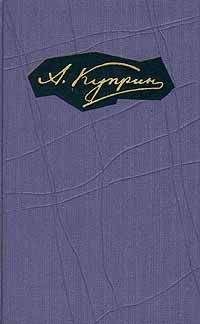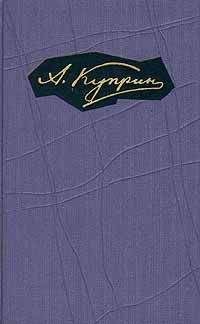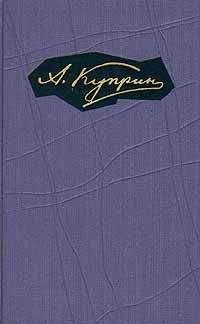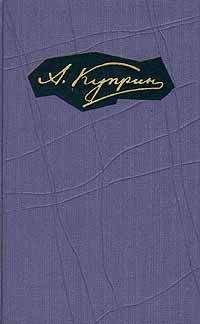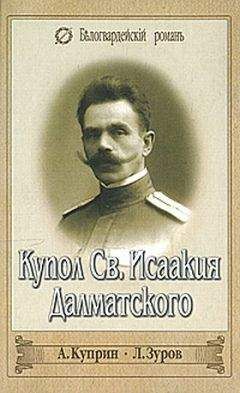Александр Куприн - Голос оттуда: 1919–1934

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Голос оттуда: 1919–1934"
Описание и краткое содержание "Голос оттуда: 1919–1934" читать бесплатно онлайн.
Впервые в отечественной и зарубежной практике предпринята попытка собрать образцы позднего творчества Александра Ивановича Куприна (1870–1937), разбросанные по страницам русских периодических изданий Нарвы, Ревеля, Риги, Гельсингфорса, Парижа и находящиеся, главным образом, в малодоступных зарубежных хранилищах и российских коллекциях. В книгу вошли тексты около двухсот произведений Куприна, никогда прежде в России не издававшихся и представляющих значительный художественный и культурно-исторический интерес. Во многом пророческие размышления одного из самых значительных русских писателей XX века и сегодня звучат предостережением нашим современникам.
1. Сотни городовых, убитых лишь за то что верны были долгу и присяге.
2. Офицеры и механики флота в Гельсингфорсе (еще в феврале!) в Кронштадте, Выборге и Севастополе. Все они были брошены в море, или сожжены в топках; все, кроме немногих трусов, побежавших с красной тряпкой в руках лизать зады победителям.
3. Тысячи офицеров армии, убитых фронтовыми солдатами в окопах, немедленно после приказа № 1. А ведь из них многие тогда были настроены не менее либерально, чем сам П. Н. Милюков.
4. Юнкера Александровского военного училища в Москве, славные мальчики-герои, дравшиеся мужественно целую неделю и преданные большевикам. Ударный женский батальон. Трупы на Калуще и Станиславове.
5. Десятки тысяч офицеров, замученных и расстрелянных во всех губернских и уездных Че-Ка — в поминовение тени грязного Урицкого.
6. Сотни тысяч несчастных, убогих, голодных, обнаженных, дрожащих людей — просто жителей, — убитых лишь за то, что «мне твой нос не нравится» или «мне твои штаны и часы нравятся».
7. Десятки миллионов хлеборобного одураченного, ограбленного народа, погибшие от голода, холода, эпидемий и карательных экспедиций.
8. Сотни тысяч солдат и офицеров белых армий, павших в боях и расстрелянных большевиками.
9. Поразившее весь мир неслыханно зверское и подлое убийство государя и его семьи.
Вот они настоящие, вопиющие жертвы той революции, которая с самого начала протекала и углублялась под знаком азиатского большевизма. Неужели на крови этих бесчисленных жертв можно строить будущий демократический парламент, куда войдут, кстати, и Керенский с Черновым. Ведь предсмертным шепотом этих жертв были: или проклятие такой революции и таким революционерам, или кроткая святая молитва о скорейшем избавлении от них многострадального русского народа.
И все-таки, задавши себе вопрос о возможности в будущей России либеральной монархии, одна газета, опираясь на перечисленные жертвы, сама же и отвечает твердо, словами Чхеидзе: «Мы утверждаем, что она невозможна, и потому мы республиканцы».
Этого утверждения мы так и не чувствуем, ибо оно основано на лжи, а республиканцами… что же… будьте…
Товарищ Ходасевич*
Недавно мне пришлось указать в печати на неумелую, косолапую бездушную попытку В. Ходасевича закончить прелестный пушкинский отрывок. Мне казалось, что я лично знал этого Ходасевича. Но я ошибся, хоть и ненамного. Этого Ходасевича я, действительно, видел, когда ему было около двух-четырех месяцев. Познакомиться мне с ним не удалось, потому что он в это время все свои переживания и напевности выявлял первобытными, но малопонятными средствами.
Я даже не подозревал, что это был не мальчик, а девочка: на мой разбор стихотворной попытки автор ответил чисто по-женски.
Во-первых, он прибавил целых пять лет к моему уже и без того серьезному возрасту. Хоть заглянул бы в энциклопедический словарь! Там ясно напечатано: 26 августа 1870 года.
Во-вторых, не зная, в какое место укусить, вспомнил, что еще в четырнадцатом году изругал меня в какой-то газете. Я не читал этой брани, да и, признаться, печатными отзывами не интересуюсь. А женщина всегда помнит не добро, ей оказанное, а зло, ею причиненное.
В-третьих, уличенный в некрасивом поступке, он, подобно женщине, пойманной на месте преступления, начинает, вопреки очевидности, нести неистовую путаницу и притом прямо в глаза свидетелям. Ведь стишки Ходасевича были не сказаны, а напечатаны черным по белому. И вот даже его три строчки с четырьмя отрицаниями, от которых, повторяю, веет тихой, скучной неуклюжей бездарностью:
Последняя строка Пушкина:
Догаресса молодая…
Ходасевич:
На супруга не глядит.
Белой грудью не вздыхая,
Ничего не говорит.
В свое оправдание В. Ходасевич выписывает из Пушкина четыре отрывка, содержащих то же (замечательно это то же!) нагромождение отрицательных частиц. Но их нанизывал не тоже, а просто Пушкин, и они у него служат послушно, изящно и уверенно к усилению смысла, украшению стиха и к его гармонии. Так-то. А В. Ходасевич никогда не согласится с тем, что его собственный Пегас везет его не туда, куда хочет всадник, а куда вздумается коню. Посудите сами. Что вы заключаете из трех Ходасевичевых строчек? Только то, что молодая догаресса молчит. Зачем же рассказывать о том, чего она не делает? Ведь кроме того, что она не вздыхает, она еще, может быть, и не плачет, и не улыбается, и не подымает век, и не смотрит на небо и т. д. А кроме того, раз она молчит, то уж, наверное, ничего не говорит в это время. Какое бестолковое водолейство.
Да, и кстати. Почему догаресса не вздыхает? Плывет она рядом со старым, властным, вероятно, нелюбимым мужем по Большому Каналу или по Лидо. Золотая венецианская ночь. Месяц. Кругом: — красота… Нет, в таких случаях из ста тысяч молодых и прекрасных женщин девяносто девять тысяч непременно вздыхали бы, хотя, может быть, и старались удержать вздохи. Пушкин очень знал такие вещи.
Дальше: почему это догаресса не вздыхает именно грудью, а не просто не вздыхает? Или тут автору для чего-то понадобилось отличить это вздыхание грудью от вздыхания ноздрями, ртом, горлом, животом? Или просто ему хотелось показать белую грудь венецианской красавицы? Но ведь, во-первых, ночь, а затем «белая грудь», да еще не вздыхающая, это уж как-то совсем нерусски выходит, как-то по-писарски, если не по-смердяковски (тот тоже был любитель на гитарке), — не лучше, чем и два других стишка.
И супругу он по праву
Томно за руку берет.
А супруга по-прежнему ничего не говорит. Молчит, может быть?
* * *Что и говорить — стишки пошленькие. Но всего непростительнее то, что В. Ходасевич не только пристегнул их к прелестному отрывку Пушкина, но у Пушкина же ищет оправдания своему безвкусию и своей неумелости. Вообразите, что В. Ходасевичу удалось высидеть такой, например, стишок:
Та ты — не ты. Ту ты — ты не заменишь.
Ему говорят: послушайте, это очень некрасиво — пять «ты» подряд; уж больно вы растыкались…
А он возражает с апломбом:
— Вы, сударь, очевидно, но, сем не знаете вашего обожаемого Пушкина. У него есть стихотворение, где в двух строчках два раза повторяется одно слово и три раза другое.
И приведет выписку:
…полна одной тобою,
Тобой, одной тобой…
И прибавит:
— А Вы, сударь, невежда. Надо, сударь, учиться и работать.
Именно с этим отеческим наставлением В. Ходасевич ко мне обратился. А закончил его гордо, курам на смех, себе на позор:
«Это я всегда говорил начинающим пролетарским писателям».
С каковым признанием я и поздравляю товарища Ходасевича.
Так это, значит, он был в числе воспитателей и руководителей той семитысячной банды безграмотных сопляков со злокачественной чесоткой языка, которая облаяла и оплевала все дорогое, чем духовно жила прежняя великая, интеллигентная Россия: литературу, искусство, красоту, чистую любовь и святую веру; которая воспевала доблестные подвиги Че-Ка и бешено выплескивала кровь Распятого из умывальника?
Но если даже он и обучал стихотворству этих ублюдков, то какая-то отдаленная жалостливая симпатия не позволяет мне верить тому, что, исполняя долг, службу и покоряясь общему обычаю, В. Ходасевич писал оды по особо торжественным случаям: на пролетарские праздники, на выступления Троцкого, на приезд Дзержинского и на избавление Зиновьева от чирия. Нет. Этого он не делал.
Прощайте, товарищ Ходасевич.
Памятная книжка*
Теперь уже совсем не секрет, что Н. Ф. Колин, наш любимейший прекрасный артист, подписал контракт с Абель Гансом. На два года. Ставится огромная по размерам (шесть эпизодов) кинопьеса, охватывающая жизнь Наполеона от ученической скамьи до острова Елена. Здесь у Колина роль, как будто бы, второстепенная, подыгрывающая. Но в ней талантливый режиссер сумел вместить то обожание к личности маленького капрала и ту простоту отношений, которые только и мыслимы были при этом, волею случая, гениальном императоре.
Замечательно то, что не Колин отыскал Абель Ганса, а, наоборот, Абель Ганс — Колина, что делает большую честь вкусу и чутью современного мага «кинотворчества». Абель Ганс простер свою дружескую любовную заботливость до того, что оставил Колину несколько свободных месяцев для съемок у прежней фирмы.
О Колине много писали в одной газете. Похож он на того-то водевильного французского актера или напоминает такого-то французского кинокомика. Суть в том, что Колин никого не напоминает и ни с кем не схож, кроме как с самим собою. Но ведь русские критики без генеалогии не могут обойтись…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Голос оттуда: 1919–1934"
Книги похожие на "Голос оттуда: 1919–1934" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Куприн - Голос оттуда: 1919–1934"
Отзывы читателей о книге "Голос оттуда: 1919–1934", комментарии и мнения людей о произведении.