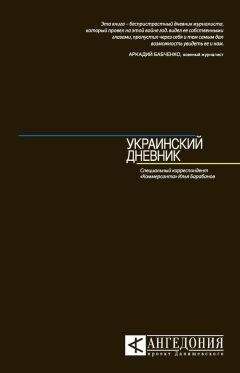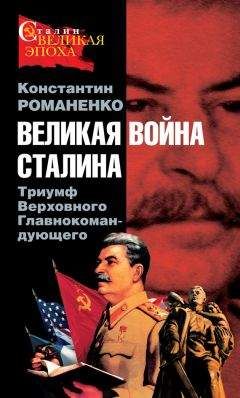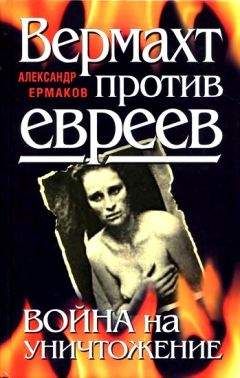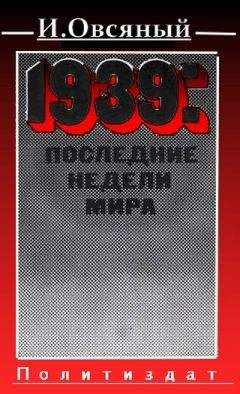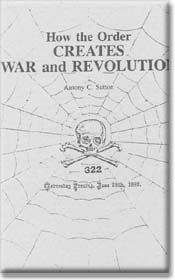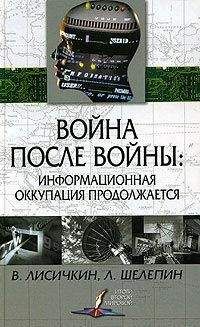Сергей Брилёв - Фидель. Футбол. Фолкленды: латиноамериканский дневник
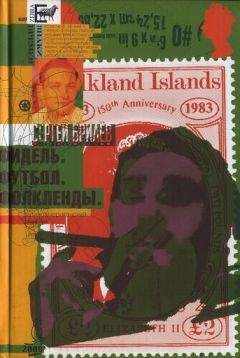
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Фидель. Футбол. Фолкленды: латиноамериканский дневник"
Описание и краткое содержание "Фидель. Футбол. Фолкленды: латиноамериканский дневник" читать бесплатно онлайн.
Предлагаю читателю вместе со мной проникнуть через границы. По земле — из Парагвая в Аргентину, из Уругвая в Бразилию. По воздуху — в Венесуэлу из США, из Гватемалы на Кубу, в Чили из Британии. Понятное дело — речь пойдёт о Латинской Америке. Естественно, не обойдётся без английского следа — не зря же я столько лет провёл в Лондоне. Само собой, не обойдётся и без следа русского. Эти три линии тем более сойдутся в главе, где я попытаюсь собрать воедино доселе разрозненные сведения о тайном участии СССР в войне за Фолклендские (Мальвинские) острова. Сразу беру набор участников этой войны в кавычки, потому что та война не была «англо-аргентинской». Берусь доказать — это была репетиция большой, возможно, мировой войны за Антарктиду.
...На берегах Южной Атлантики проникнем в «тайны уругвайского двора», этими тайнами до сих пор окутан первый чемпионат мира по футболу, прошедший в Монтевидео...
Но у британцев на это есть ещё одна, последняя история про ещё одно путешествие. В отчёте экспедиции сэра Ричарда Хоукинса значится, что за шесть лет до голландцев он обнаружил на широте 48 градусов очередную «девственную землю», которая не значилась ни на каких картах. Контраргумент аргентинцев: вообще-то острова — много южнее.
Как бы потом ни вертели этими данными британцы и аргентинцы, отдадим должное всем тем мужественным парням. Восхитимся моряками, которые первыми покорили те ревущие широты, поставили на Крайнем Юге первые «заявочные столбы», обозначили первые контуры ныне виляющих границ. Как это было и есть и на Крайнем Севере, на российско-норвежской границе, куда я сейчас и предлагаю на время перенестись.
— Ребята! Значит, так! Снимайте что хотите, но в сторону норвежцев камеру — ни-ни! — Командир российских пограничников подполковник Бялоконь был категоричен.
— Так как же тогда снимать, товарищ подполковник? — настырничал я. Хотя накануне так же категорично про запрет съёмок российской стороны границы, в свою очередь, говорили норвежские пограничники, когда мы снимали «священный рубеж» с их стороны.
— Это вы уже сами решайте, как снять так, чтобы у меня не было проблем. Мне лишний протест от норвежского погранкомиссара не нужен, — упорствовал наш пограничник, напомнив мне, как накануне норвежцы поминали строгого погранкомиссара и от России.
— Но ведь эту церковь никак не снимешь так, чтобы Норвегия в кадр не попала.
— Придумывайте, ребята. Я и сам вижу, что заснять трудно. Но вы уж как-нибудь. Моё дело было вас сюда привезти. Вам и так уже повезло, что вы здесь оказались.
Оказались мы в уголке действительно удивительном: в настолько символичном российском «анклаве», что по сравнению с ним меркнет даже Калининград. Если «российская Прибалтика» образовалась только после Второй мировой, то этому «заявочному столбу» России в Европе и в Арктике уже несколько веков. Здесь не обойтись без короткого экскурса в топографию. Там, где граница между Россией и Норвегией идёт по земле — всё, естественно, в «колючке». Но есть граница и по Паз-реке, которая вот уже несколько сот лет считается нынешним водоразделом между славянским и варяжским мирами. Водораздел водоразделом, но ещё во времена СССР Москва и Осло договорились построить на этой реке совместную ГЭС. Чтобы никто не путался, посередине плотины провели жирную черту: здесь — Норвегия и Запад, здесь — Россия. Но подполковник Бялоконь уверенно, на приличной скорости пересёк эту черту на своём уазике, и без всяких проверок и штампов в паспортах мы въехали на тот берег. Проехали несколько сот метров по Норвегии, как вдруг на том берегу опять началась российская разметка и узнаваемые российские верстовые столбы. Как это?
Итак, и на том, норвежском, берегу пограничной реки у России — свой участок земли, своего рода «заявочный столб» и на остальную Арктику. А чтобы это лучше помнилось, здесь до всякой «колючки» возвели православный храм. Я, кстати, не случайно упомянул чуть ранее времена, предшествовавшие Смутному времени. Потому что заложен этот храм Бориса и Глеба во времена царя Ивана Грозного человеком, которого называют «лопарским апостолом» Трифоном (из-за того, что крестил он местных кочевников-лопарей, которых в Норвегии называют саами). Норвежцы водят к кромке этой «маленькой России» экскурсии: летом на лодках, зимой на снегоходах. Собственно, побывать в российском храме Бориса и Глеба я захотел после того, как впервые увидел эту церковь на фотографии в витрине норвежского турагентства в Киркенесе (летом 2000 года я даже и не знаю сколько раз приезжал в этот город, который тогда стал ключевой перевалочной базой во время операции по подъёму российской подлодки «Курск»)[32].
Казалось бы, Россия должна сама всячески пропагандировать туры к этому «заявочному столбу» на том берегу Паз-реки, прославляя храм Бориса и Глеба как символ своей многовековой и продуманной арктической политики, как символ интересов России и во всём Заполярье. Но россияне могут попасть туда, либо купив путёвку в Норвегии (где разрешают ходить хоть по кромке границы), либо по спецпропускам. Ведь по российским законам это закрытая погранзона, допуск в которую ограничен. А ведь какой мог бы быть «пиар»!
У России вообще большие проблемы с грамотным использованием такой «мягкой силы». Погружение Артура Чилингарова и его товарищей на дно океана на Северном полюсе — пока исключение из правил. А в остальном российским «политическим полярникам» ещё только предстоит перенять навыки массированного «мягкого пиара» у Крайнего Юга: у британцев, аргентинцев и чилийцев. Например, в Чили, в том самом городе Пунта-Аренас, мне вручили диплом «человека, посетившего самый южный город мира». Я спрашиваю:
— А как же аргентинская Ушуайя?
— А что с ней?
— Ну, она ведь ещё южнее.
— Ну, да разве Ушуайя это город? Так, ерунда, населённый пункт. Вы лучше нашу грамоту сохраните.
Шутки шутками, но и такими мелочами «остальной мир» приучают к мысли о том, кто здесь главный. Такой перманентный «пиар исподволь» России ещё только предстоит освоить. И чтобы не быть голословным, сделаю ещё одно отступление в сторону «заметок на полях журналистского блокнота» из совсем другой части света. Перед тем как вернуться на Крайний Юг и к Фолклендам, предлагаю ненадолго отправиться на Юг... СНГ: в киргизскую столицу Бишкек в лобби, пожалуй, самой приличный гостиницы «Хайатт». Где я сижу осенью 2005 года, слушаю джаз в исполнении местного банда и делаю крайне любопытные наблюдения.
Уже тогда знатоки Средней Азии поговаривали о возможной «цветной революции» на этот раз в Кыргызстане. Через некоторое время она и случилась, «тюльпановая». Чувствуя приближение больших перемен, Бишкек тогда окучивала и мини- делегация телеканала «Россия». В ожидании деловой встречи я сидел в баре отеля, перелистывал местную англоязычную газету. А когда поднял глаза, то понял, что все, чьи фотографии я только что разглядывал на газетной полосе, — вот они, сидят в этом же баре. И представители международных НПО, и ООН, и Всемирного банка. Всё логично. Киргизия — стратегический перекрёсток: «око» и на Афганистан, и на Китай. Не случайно, что после ухода советских войск с Кубы именно Киргизия стала . единственной страной в мире, где есть военные базы и России, и США. Российская — в Канте, американская — в Манасе. Правда, вон тот подошедший к бару светленький парнишка, кажется, из какого-то скандинавского НПО и явно в этих краях человек новый, о таком «дуализме» Киргизии вряд ли догадается. Потому что как раз рассматривает развешенные по стенам бара вымпелы и благодарственные письма, которые оставили здесь лётчики ВВС США. Всего-то: «Такое-то звено ВВС США приятно здесь посидело по пути в Афганистан». А скандинав уже расспрашивает бармена, а тот ему про американцев и рассказывает. О россиянах — ни слова. Потому что повода нет. Хотя я-то точно знаю, что и генералы из Канта, и российские дипломаты сюда заглядывали, и не раз. Цена вопроса — всего-то какой-нибудь вымпел или письмецо на бланке. Мелочь? Конечно, мелочь. Но именно из таких мелочей, как грамотка о посещении «самого южного города мира» в чилийском Пунта-Аренас или вымпел «Здесь был Джон» в киргизском Бишкеке, и складывается стратегический успех. В России этим пока никто не занимается.
Чего, конечно, не скажешь о Крайнем Юге, где после войны за Фолкленды возникла целая культура того, как убедить внешний мир в своей правоте — если надо, то и исподволь. И главный посыл такой: мало ли кто эти земли открыл, главное — кто их освоил.
Вот, по версии Лондона, кто бы там ни открыл Фолкленды, первая британская высадка (то есть заря освоения) пришлась уже на 1690 год. Капитан Джон Стронг и нанёс на карту имя Фолкленда, будущего первого лорда Адмиралтейства. Адмиралтейство прониклось и уже очень скоро замечает, что неплохо было бы обустроить на архипелаге достойную базу. Сказано — сделано, и Лондон отправляет к этим островам новую экспедицию. Испания протестует. Но и Британия орешек более крепкий, чем Франция. Здесь появляется капитан Байрон. То был дедушка великого поэта, который, правда, всем стилям предпочитал ещё не романтизм, а имперскую категоричность. В своём отчёте Байрон-дед напишет, что Фолкленды — «ключ к Тихому океану» и что отсюда можно контролировать подходы к портам Чили, Перу и Панамы. Что было абсолютной правдой до открытия Панамского канала. Ешё через два года другой британский капитан, Джон Макбрайд, высаживается на Фолклендах, чтобы основать здесь постоянную колонию.
Итак, спор Франции и Испании завершён: Париж Мадриду острова вернул. Но теперь возникает ещё и Британия. И ещё несколько лет на островах опять «двоевластие». Британцы — на западных Фолклендах, испанцы — на Мальвинах восточных. Очень важный политический момент для будущих споров: «испанский» губернатор островов представлял Испанию не напрямую, а назначался генерал-капитаном в Буэнос-Айресе. То есть острова считались составной частью не самой Испании, а её колонии Рио-де-ла-Плата, большая часть которой потом превратится в Аргентину. Впрочем, очень скоро британцам будет не до Южной Атлантики и не до Южной Америки. Их тогдашний приоритет — Америка Северная, где на английского короля Джорджа идёт президент Джордж: Джордж Вашингтон поднимается на короля Джорджа, Георга III[33].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Фидель. Футбол. Фолкленды: латиноамериканский дневник"
Книги похожие на "Фидель. Футбол. Фолкленды: латиноамериканский дневник" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Брилёв - Фидель. Футбол. Фолкленды: латиноамериканский дневник"
Отзывы читателей о книге "Фидель. Футбол. Фолкленды: латиноамериканский дневник", комментарии и мнения людей о произведении.