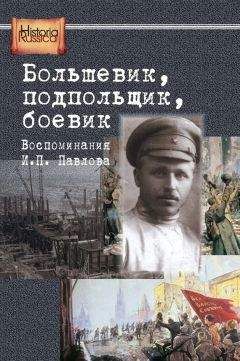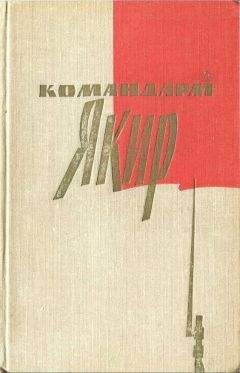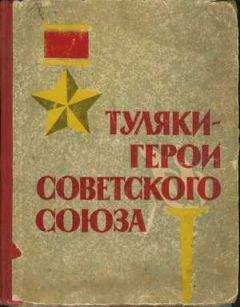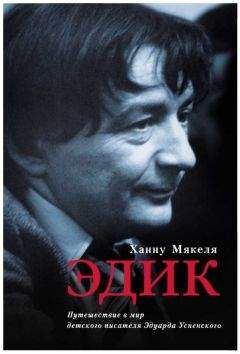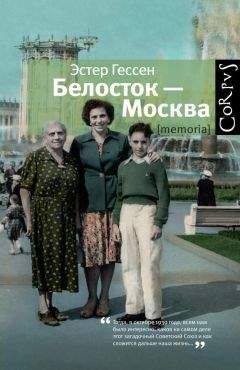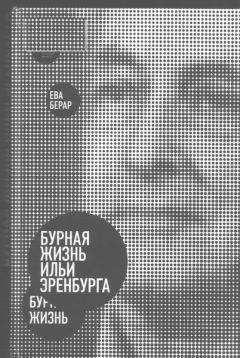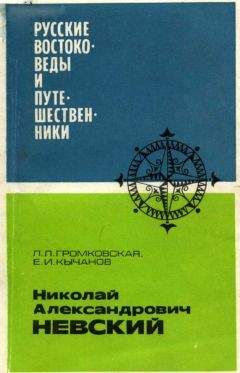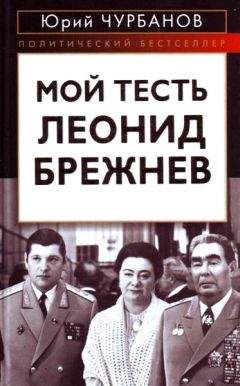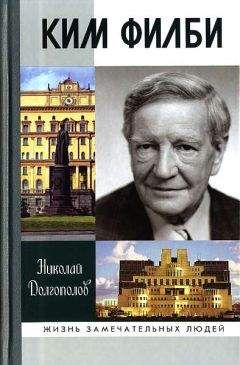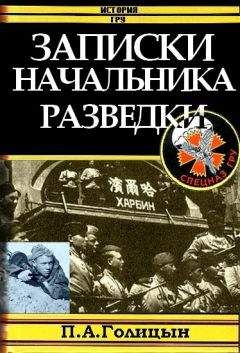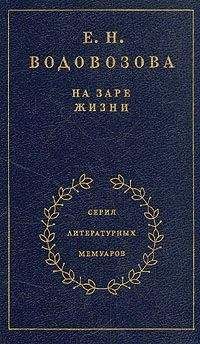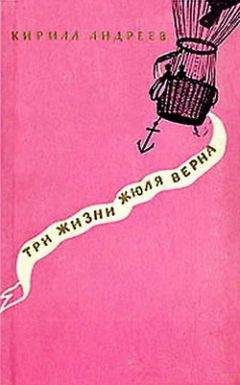Кирилл Косцинский - В тени Большого дома
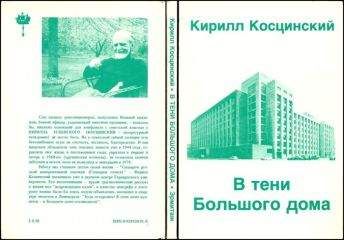
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "В тени Большого дома"
Описание и краткое содержание "В тени Большого дома" читать бесплатно онлайн.
Сын видных революционеров, выпускник Военной академии, боевой офицер, украшенный многими орденами, — казалось бы, никаких оснований для конфликта с советской властью у КИРИЛЛА УСПЕНСКОГО (КОСЦИНСКИЙ — литературный псевдоним) не могло быть. Но у советской тайной полиции есть безошибочное чутье на смелость, честность, благородство. И она нащупала обладателя этих опасных качеств уже в 1944 году, отравляла ему жизнь в послевоенные годы, упрятала в тюрьму и лагерь в 1960-ом (хрущевская оттепель), не оставляла своими заботами и потом, пока не вынудила к эмиграции в 1978.
Работу над главным делом своей жизни — «Словарем русской ненормативной лексики (Словарем слэнга)» — Кирилл Косцинский заканчивал уже в научном центре Гарвардского университета. Его воспоминания — яркий трагикомический рассказ о жизни под «недремлющим оком», в качестве эпиграфа к которому можно было бы взять лозунг-объявление, висевшее в квартире писателя в Ленинграде: «Будь осторожен! В этом доме аукнется — в Большом доме откликнется».
Антисоветские взгляды были внушены мне Успенским. Отказавшись от них, я смог преодолеть свой творческий кризис (там же).
И где-то еще:
Он, Успенский, охаивал все самое дорогое, самое святое для советского человека.
Последнее утверждение слово в слово повторила Вероника Чугунова, сестра Гансовского (л/д 189/об.). Она же заявила, что я ездил к Пастернаку специально для того, чтобы выразить ему свою солидарность по поводу кампании (я бы сказал «травли»), ведущейся против него в прессе. Позднее, воспользовавшись своим «близким знакомством» с Леонардом Бернстайном, показывала Чугунова, я якобы советовал ему прервать концерт и поздравить присутствующего на нем Пастернака с Нобелевской премией (л/д 190), от которой он, Пастернак, уже давно отказался.
Поразил меня и Валентин Пикуль. Правда, хотя и несомненно талантливый (я бы сказал — пузом талантливый), но не очень умный и вполне необразованный человек, что отчетливо просматривается в его ныне столь популярных у советского обывателя многопудовых романах, он всецело находился под влиянием своей супруги, Чугуновой, и ее брата — Гансовского. В довольно коротких показаниях он подтвердил основные «идеологические» обвинения, высказанные Вероникой, и добавил, что я всегда оппозиционно относился к Советской власти и ее мероприятиям и называл ее разновидностью фашизма. Позднее, на суде, он превратил свои показания в мелодраматическое обращение ко мне:
— Кирилл, но ты хотя бы теперь понимаешь всю глубину своих заблуждений, которые привели тебя сюда, на скамью подсудимых? Почему ты не слушал моих предостережений?
Предостережений мне Пикуль не делал. Во время наших совместных с Гансовским встреч и разговоров он молчал, слушал, разве лишь не раскрыв рот, и соглашался со всем, что мы говорили, даже если наши позиции по какому-либо вопросу были диаметрально противоположны.
С Пикулем я познакомился году в сорок седьмом, зимой, когда он в бараньем тулупе и нелепой фетровой шляпе изредка появлялся на занятиях литературного объединения при Союзе писателей, которым руководил покойный Всеволод Рождественский. Он писал в то время недурные для начинающего стихи и не помышлял о прозе. К прозе он пришел значительно позже, и путь его в печать был долог и труден. Он нигде не работал, мать его получала гроши, Пикуль приходил ко мне зеленый от хронического недоедания, и Валентина Валерьяновна кормила его.
В 1954 году, с помощью Андрея Хршановского, бывшего главного редактора Ленинградского отделения издательства «Молодая гвардия», и Маргариты Довлатовой, редактора в том же издательстве, Пикуль дотянул до печати свой первый «кирпич» — «Океанский патруль».
У меня сохранился экземпляр этого романа с автографом, который в равной мере передает как тогдашнее отношение автора ко мне, так и безудержное многословие, столь характерное для его книг:
Дорогому Кириллу Косцинскому (Успенскому) — человеку, которого я искренне люблю и ценю, как доброго и славного юношу (в это время мне было 39 — К. К.). Последнее слово — не описка: ты, действительно, так добр и горяч, как возможно только в годы юности, и я не знаю людей нашего круга, кому бы ты сделал зло, — зло делают старцы или духовные, вернее, одряхлевшие импотенты. Дай Бог тебе всего хорошего, помоги освободиться от печали, праздности и уныния. Тебя всегда украшало грубое солдатское мужество, переходящее подчас в дерзость, и суровая литературная принципиальность (я сужу по себе). Еще раз желаю освободиться ото всего, что вносит смятение в твою душу, и верю — уляжется муть, останется хрустальная вода, через толщу которой мы все разглядим чистое дно твоего большого литературного сердца.
Твой навсегда друг, от чего никогда не откажусь, и автор этого романа, от чего тоже не отказываюсь.
26.03.54 г.
В. Пикуль
Это, вероятно, самый длинный автограф в истории литературы XX-го века и, безусловно, один из самых выспренных и манерных.
Чтобы добавить последний штрих к семейному портрету Гансовского-Пикулей, не могу не сообщить, что моя жена, приехав на свидание, с горечью рассказала, что целый ряд моих литературных друзей всячески избегает ее. Очень скоро выяснилось, что Гансовский, Чугунова и Пикуль распространяли слухи, будто именно она «посадила» меня, дав самые резкие «обличающие показания».
Сюрпризы в моем деле не кончились на показаниях Гансовского-Чугуновой.
Были еще изобличающие меня показания полковника Е. Шаповалова, преподавателя тактики в Военно-политической академии им. Ленина, когда-то моего подчиненного, с которым мы неожиданно встретились в середине 50-х годов и восстановили приятельские отношения. Он пространно описывал мое отрицательное отношение к политработникам, которых я называл безграмотными бездельниками и доносчиками, мое негодование по поводу венгерских событий и, для равновесия, приписывал мне несовершенные мною боевые подвиги.
Был еще генерал М. Алябин, командир дивизии, а в 1944 г., когда я после изгнания из партии и из разведки ехал в полк — заместитель начальника штаба дивизии. Бесшабашный весельчак и пьяница, редко бывавший трезвым как в годы войны, так и после нее, он сообщил мне тогда, что вдогонку мне пришел приказ НКО о присвоении мне звания подполковника, и сам приколол к моим погонам недостающие звездочки. Приказ был довольно старый, его, видимо, попридержали в штабе армии, чтобы я не имел оснований отказаться от назначения на должность начальника штаба полка — это было сильным понижением, а служебные отзывы у меня были безупречные.
В 1956 г. мы встретились с Алябиным в Одессе, куда я попал на «военно-писательские» сборы, а он командовал полком. В Одессе оказалось множество моих фронтовых знакомых — и в штабе округа, и в штабе расположенной в городе дивизии, с командиром которой я кончал когда-то военное училище. Сборы были пустые, мы — человек пять литераторов — проводили их главным образом на пляже, а по вечерам, если не шли в ресторан, я оказывался у кого-либо из армейских приятелей. У меня был с собой «Теркин на том свете» — в первом варианте, значительно более сильном, чем тот, что был опубликован шесть лет спустя, я всюду читал его — под слезы и хохот окружающих.
Все кончилось хорошо, мы, «письменники», разъехались по домам — это было в августе, а четыре года спустя, знакомясь с делом, я наткнулся на донос — именно донос! — Алябина, написанный почему-то через полгода после нашей встречи, в феврале 1957 г. Почему он так долго медлил? Терзался между угрызениями совести и партийным долгом? Или это была плата за генеральское звание и командование дивизией? Донос начинался классической фразой: «Желая узнать политическое лицо Успенского ближе, я пригласил его к себе, сказав жене, чтобы ⁄она⁄ приготовила достаточно водки и закуску получше (...). Я еще в годы войны знал, что он исключен из партии за троцкистские взгляды» (л/д 180).
Когда в 1967 г., уже после моей отсидки, мы столкнулись с Алябиным в Ногинске на встрече ветеранов 40-ой гвардейской дивизии, он прошел мимо, даже не взглянув в мою сторону (бывший троцкист все же!), а его жена, Тоня, бывшая когда-то связисткой в штабе дивизии, улучив минуту, обняла меня и шепнула: «Не сердись на меня, Кирилл. Я здесь ни при чем».
Три года спустя Алябин умер естественной для этого типа людей смертью — от алкогольного отравления.
Удивил меня и И. Годлевский. Он был одним из тех пяти-шести художников, в мастерские которых я водил Леонарда Бернстайна и его оркестрантов. Годлевского я знал мало: его пасынок учился в школе вместе с моим сыном, раз или два я был в его мастерской. Для американцев он был, конечно, экзотичен: он писал суздальские, владимирские, угличские пейзажи в манере Альбера Марке. Мои приятели купили у Годлевского восемь или десять холстов на 11 тысяч (старых) рублей — по его собственным подсчетам, — за которые он не взял ни копейки, обязав их расплатиться альбомами по искусству. Говорят, что сейчас у него одно из лучших собраний подобных изданий в городе.
Через день или два после обыска Годлевский, ничего не зная об этом, позвонил мне, пригласил на день рождения. Я ответил, что очень занят и не смогу придти, а еще через день или два, при встрече, извинился и рассказал, почему не пришел. Он был возмущен до крайности:
— С-сволочи! Когда это, наконец, кончится?!
Недреманое око госбезопасности приметило и Годлевского. На следствии он дул в дудку следователя: Успенский охаивал все и вся, да еще навязал ему, Годлевскому, американцев и в разговоре с ними — с американцами! — восхвалял американский образ жизни.
Это гос-безопасное око несомненно приметило и других людей, с которыми я общался, но вызывались они на следствие очень избирательно. Не вызывали крупных писателей — Веру Панову, Ольгу Бергольц, не вызывали и таких, с которыми могла произойти ошибка, подобная той, что вышла у них с Кучеровым. Любопытно, что протоколы допросов нескольких человек — о том, что они вызывались и допрашивались, было ясно из каких-то оговорок и проговорок то Кривошеина, то Рогова, — отсутствовали. Были ли это «свои» люди, агентура, которую они не хотели раскрывать? Так, например, отсутствовал протокол допроса Константина Ларина (Лоренца), московского журналиста, долго сидевшего по причине своего немецкого происхождения, реабилитированного в 1956 г. и в мае 1960 г. ездившего со мной в командировку от «Литературной газеты». Кривошеин часто ссылался на его показания, весьма для меня невыгодные. Почему их не было в деле и имя его ни разу не упоминалось на суде?
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "В тени Большого дома"
Книги похожие на "В тени Большого дома" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Кирилл Косцинский - В тени Большого дома"
Отзывы читателей о книге "В тени Большого дома", комментарии и мнения людей о произведении.