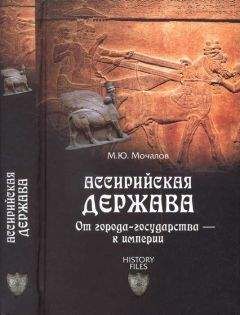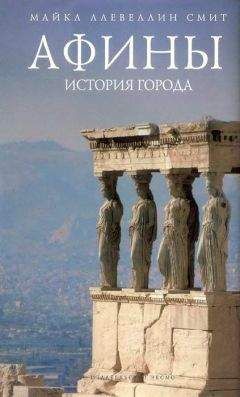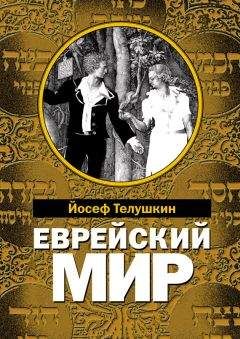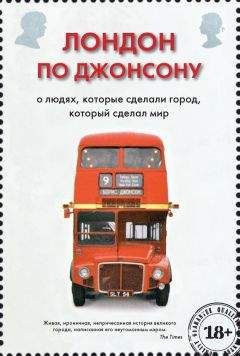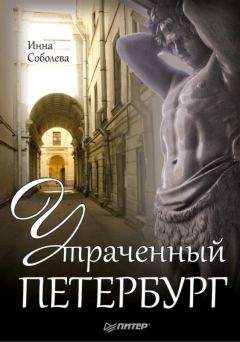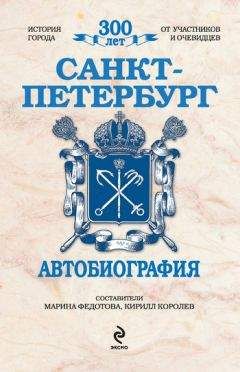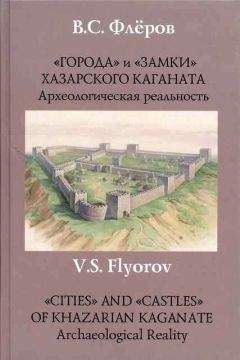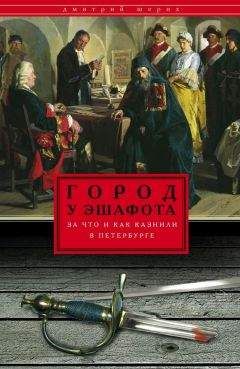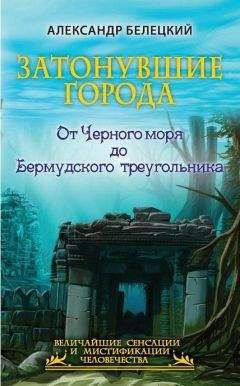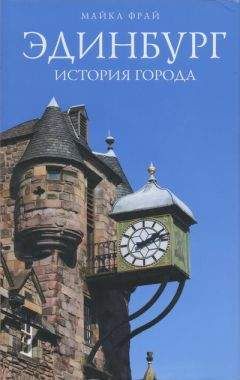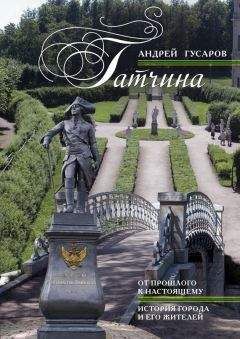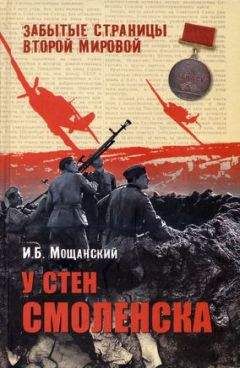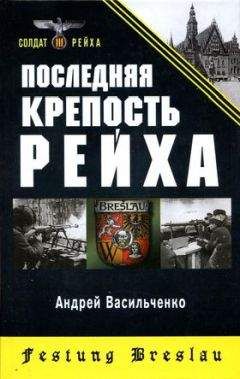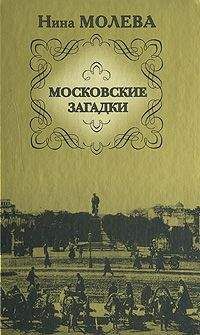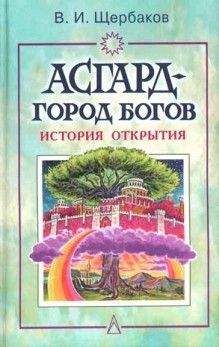Валентина Брио - Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius
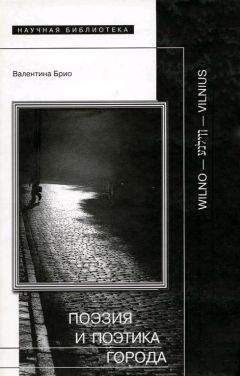
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius"
Описание и краткое содержание "Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius" читать бесплатно онлайн.
Сосуществование в Вильно (Вильнюсе) на протяжении веков нескольких культур сделало этот город ярко индивидуальным, своеобразным феноменом. Это разнообразие уходит корнями в историческое прошлое, к Великому Княжеству Литовскому, столицей которого этот город являлся.
Книга посвящена воплощению образа Вильно в литературах (в поэзии прежде всего) трех основных его культурных традиций: польской, еврейской, литовской XIX–XX вв. Значительная часть литературного материала представлена на русском языке впервые. Особенная духовная аура города определила новый взгляд на его сложное и противоречивое литературное пространство.
Эти адреса уже навсегда войдут и в историю Вильно, и в легенду, и без них станет невозможно восприятие облика города. В особенности это относится к Базилианскому монастырю, где находился в заключении Мицкевич и где до сих пор (в современной библиотеке) место его заключения называется «Келья Конрада» (Cela Conrada). Исторический памятник совместился с литературным: это место событий, происходивших с персонажами (и с товарищами Мицкевича с реальными именами) части III его романтической драматической поэмы «Дзяды» («Dziady»). Вильно стал для филоматов отправной точкой в дальнейшей жизни и деятельности. Поэтому символична и та аллегорическая картинка (transparent), описанная Мостицким, которую передавали друг другу узники: разбитая молнией колонна, над ней плакучая береза, общий вид Вильно и маленький костел-памятник на горке[77].
Во время следствия, пока филоматы находились в заключении в четырех монастырях, о них узнали все, — и весь город им сочувствовал, их поддерживали, им помогали, снабжали всем необходимым, они стали героями. Героизацию довершил Мицкевич через несколько лет, уже в эмиграции, в той самой знаменитой III части «Дзядов», вышедшей уже и после Польского восстания, и после закрытия Виленского университета, в 1832 г. в Париже: он показал своих друзей мучениками и подарил им бессмертие.
Напомним пояснения, которые дает Мицкевич в предисловии, так как они также послужили материалом для легенды: «…в деле виленских студентов есть нечто мистическое и таинственное. Склонный к мистицизму, кроткий, но непоколебимый Томаш Зан, руководитель этой молодежи, высокое самоотречение, братская любовь и согласие, связывавшие молодых узников, всем явная Божья кара, постигшая притеснителей, — все это глубоко запечатлелось в умах всех, кто был свидетелем или участником этих событий… Все, кому хорошо известны события, о которых идет речь, могут засвидетельствовать, что историческая обстановка и характеры действующих лиц в моей поэме очерчены добросовестно…»[78] Мицкевич словно указывает пути, по которым и стала развиваться легенда: мистический отблеск, вмешательство Высших сил (речь идет об известном, исторически достоверном эпизоде гибели от удара молнии доктора Беюо, сыгравшего неприглядную роль в следствии, а также о внезапной смерти камергера Байкова). Все это нашло воплощение в ярком и необычном произведении, соединившем исторические реалии и фантастику, причем с сильным поэтическим воодушевлением и эмоциональностью. Так виленские студенты стали еще одним символом мученичества Польши.
О них не забыли, несмотря на все исторические испытания и цензурные запреты. В 1830—1840-е годы стихи Мицкевича (и некоторых других сосланных поэтов) публиковались в выходивших в Вильно литературных альманахах (перед самым цензурным запретом упоминания имени поэта и даже после)[79]. В эти же годы к Мицкевичу обращаются и другие культурные традиции Вильно: в 1842 г. Иегуда Клячко (в будущем известный польский писатель и публицист Юлиан Клячко) перевел несколько его стихотворений на иврит[80]. А перевод на литовский язык, выполненный С. Даукантасом в 1822 г., как показал в своем исследовании Т. Венцлова, стал первым переводом Мицкевича на другой язык[81].
Процесс филоматов-филаретов стал прологом к следующей драме — событиям Польского восстания против царских властей 1830–1831 гг. и закрытию университета в 1832 г. (на его основе были созданы Медико-хирургическая академия и Духовная академия, но и они вскоре были перенесены из Вильно), которое Станислав Пигонь назвал «внезапной ликвидацией польского просвещения в Литве и России вообще»[82].
В Вильно жил в детстве и юности и другой великий польский поэт — Юлиуш Словацкий (Juliusz Słowacki, 1809–1849). Он прожил в этом городе около 14 лет, учился в гимназии, окончил университет (годы учебы 1825–1828). В его раннем детстве умер отец, профессор Виленского университета Эйзебиуш Словацкий (упоминавшийся выше); через несколько лет мужем его матери стал Август Бекю (August Béku, 1771–1824), профессор медицины. Отношения с отчимом и сводными сестрами сложились хорошие, Юлиуш с детства был общим любимцем. Они жили в доме на Замковой, напротив университета (во дворе дома имеется мемориальная доска с бюстом поэта).
С творчеством Словацкого связана одна особенная «виленская» проблема, своеобразно сфокусировавшая свое время, пропитанная его духом. Об этом интересно и, кажется, исчерпывающе писала польская исследовательница творчества Словацкого Алина Ковальчикова[83]. Прежде чем перейти к изложению ее сути, хотелось бы отметить, что, на наш взгляд, проблема эта и существует, и интересна не только в данном конкретном случае, но и вообще как специфическая биографическая альтернатива, как неожиданный аспект психологии творчества. Суть же состоит в том, что Словацкий с определенного времени о Вильно не упоминал сознательно и намеренно. Это связано с появлением в 1832 г. (т. е. уже после восстания 1830–1831 гг.) III части «Дзядов» Мицкевича, где среди приспешников Сенатора (т. е. Новосильцева, преследователя филоматов и филаретов) есть Доктор, изображенный так, что не остается сомнений в его тождестве с профессором медицины Августом Бекю — отчимом Словацкого. Это и послужило причиной глубокой обиды Словацкого (к слову, и без того всю жизнь пытавшегося соперничать со своим старшим собратом по перу) на Мицкевича; он уехал тогда из Парижа в Женеву. Более того, ситуация как бы ставила под сомнение ту духовную атмосферу, в которой воспитывался и складывался будущий поэт. Мать Словацкого, Саломея Бекю, была хозяйкой известного в городе салона. Его посещали разные люди: и будущие гонители филоматов, и сами филоматы, и Мицкевич — он заходил в этот дом даже после вынесения приговора, перед самым отъездом в Россию в 1824 г., и вписал в альбом хозяйки прощальное стихотворение. Резкая конфронтация наступила позднее, в период и после восстания 1830–1831 гг., когда столь многие оказались в эмиграции (в том числе и оба поэта). После поражения Мицкевич иначе увидел и представил в своем произведении деятельность филоматов. В свете восстания, на волне которого прозвучала и чистая нота поэзии Словацкого, большинство посетителей салона Бекю предстали ренегатами.
В Швейцарии Словацкий пишет поэму «Час раздумья» («Godzina myśli», 1833), в которой создает биографический миф романтического поэта, «отрока с черными очами», живущего в своем возвышенном мире мечты и поэзии: «Словацкий дал такую версию своей юности, при которой родство не то что с доктором Бекю, но с миром реальным вообще не имело значения»[84]. С этого времени поэт также избрал Кременец (где он родился) в качестве образа любимого города детства. Однако и здесь не все просто. Описывая Кременец, поэт имел в виду Вильно, как убедительно доказала в своих работах Ковальчикова. Эмоциональная «власть» Вильно оказалась столь сильной, что попытки Словацкого скрыть, «отодвинуть» с ближнего плана все, с этим городом связанное, не помогли ее преодолеть.
Можно добавить к этому, что виленские эпизоды, их отдельные черточки пронизывают воспоминания Словацкого и проникают в жанры более интимного характера — в дневники, письма. Приведем один пример из письма к матери 1843 г.: «…среди этой природы так много вещей, которые напоминали далекие места и времена — порою мотылек совершенно такой же, за которым бегал над Виленкой, а когда присмотрелся к нему, то каждая точка на крылышках мне знакома, каждый зигзаг словно буква старого письма, когда-то в детстве записанная в памяти; иной раз трясогузка у моря совершенно как та, в которую когда-то на дворе в Мицкунах выстрелил… Словом, никуда не убежать от воспоминаний, — никуда от слез, — и от тоски»[85]. Знаки Вильно проявились в творчестве Словацкого и иначе: виленское барокко повлияло на формирование его поэтического воображения[86].
* * *В университете, несмотря на изменения, у филоматов были наследники и продолжатели — в том числе уже упоминавшийся Юзеф Игнаций Крашевский, начавший учебу в 1829 г., и его друзья по литературному обществу. Когда в Варшаве в 1830 г. началось восстание, они купили пистолеты, но были арестованы. Несовершеннолетнего Крашевского с трудом освободили благодаря влиятельной родственнице, и он долгие годы находился под негласным полицейским надзором.
Винцентий Поль (Wincent Pol, 1807–1872, позднее писатель и географ), описавший университет в своих воспоминаниях, приехал в Вильно с научными целями в 1830 г. — он сдал экзамен на первую научную степень и получил в университете место преподавателя немецкого языка. Это было в начале января 1831 г. — буквально за несколько дней до восстания.
У Поля были здесь покровители, как и полагалось в те времена, которые ему помогали в получении места и одновременно «учили жить» в новой среде — вести себя в соответствии с правилами, принятыми в здешнем обществе, и прежде всего в салоне пани ректорши. Поль все эти указания подробно записал, и они очень ярко характеризуют и университетскую среду, и общую атмосферу немалой и по-прежнему значимой части виленского общества. Убедившись, что Поль умеет танцевать, его покровитель сказал: «Ну а больше ничего не надо, следующие экзамены пойдут легче из салона пани ректорши, но нужно уметь молчать и вежливо кланяться»[87]. Трудно не вспомнить здесь Евгения Онегина.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius"
Книги похожие на "Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Валентина Брио - Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius"
Отзывы читателей о книге "Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius", комментарии и мнения людей о произведении.