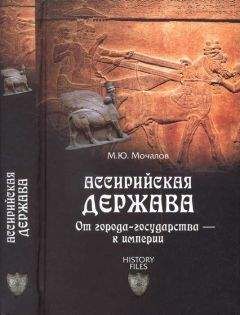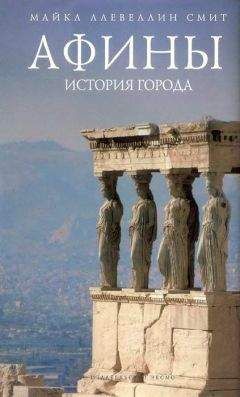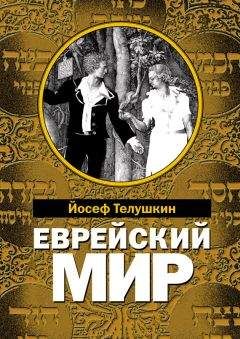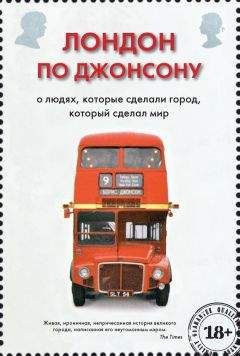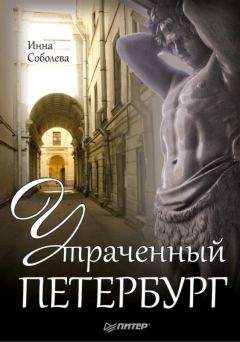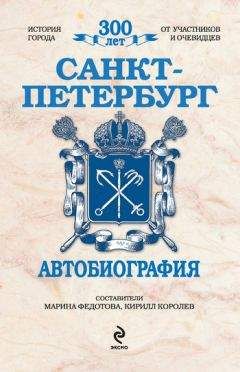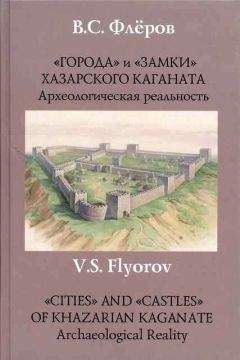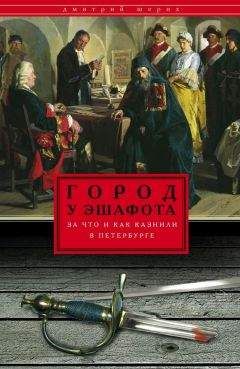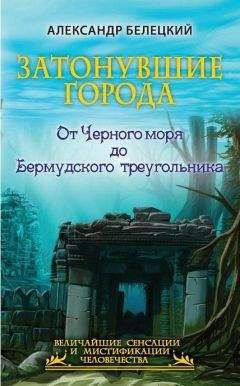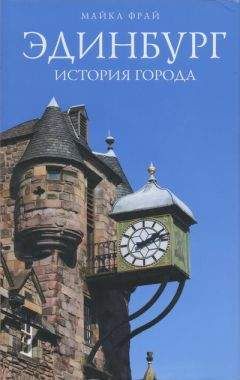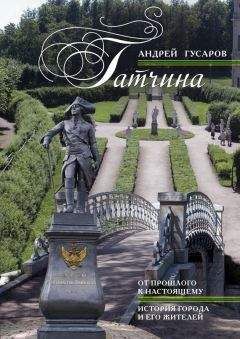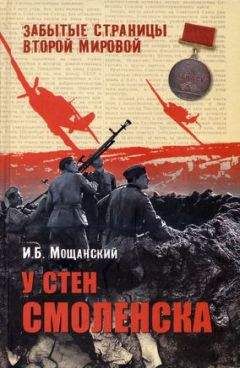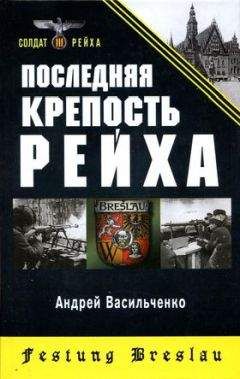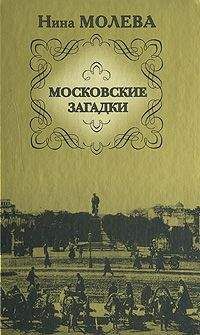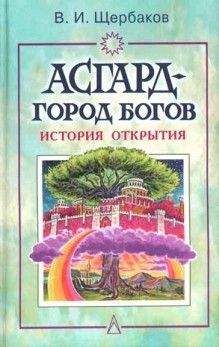Валентина Брио - Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius
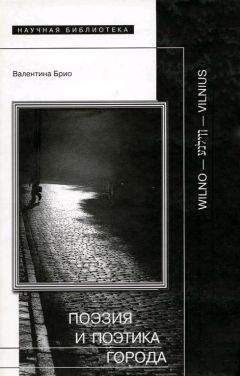
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius"
Описание и краткое содержание "Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius" читать бесплатно онлайн.
Сосуществование в Вильно (Вильнюсе) на протяжении веков нескольких культур сделало этот город ярко индивидуальным, своеобразным феноменом. Это разнообразие уходит корнями в историческое прошлое, к Великому Княжеству Литовскому, столицей которого этот город являлся.
Книга посвящена воплощению образа Вильно в литературах (в поэзии прежде всего) трех основных его культурных традиций: польской, еврейской, литовской XIX–XX вв. Значительная часть литературного материала представлена на русском языке впервые. Особенная духовная аура города определила новый взгляд на его сложное и противоречивое литературное пространство.
Немало эмоций и переживаний возбуждал сам переезд в Вильно на сезон — это было долгожданное событие, и ежегодная встреча поэтизировалась: «Возвращение наше в Вильно было веселым. <…> Мы, рожденные в Литве и любящие Вильно, от Погулянки высовывались из кареты, чтобы высмотреть башни костелов, а когда появлялась и вся панорама домов и костелов, разворачивавшаяся в осеннем обрамлении, мы радостно кричали: Вильно! Любимое Вильно! И такова сила привязанности к родной стороне, что после великолепной Варшавы с высокими дворцами, широкими улицами, — эти узкие, крутые переулки с низкими домами, вместо того, чтобы уступить в сравнении, казались милее, натуральнее, и мы снова и снова кричали, хлопали в ладоши: Браво, Вильно!» (88).
Картинка, словно мимоходом дающая самые общие, но тем не менее очень важные, неотъемлемые в любом описании детали приближения города, наполнена эмоциями, обрамляется любовным восприятием — реальные детали пейзажа переплавляются здесь чувством. Любовь к городу воодушевила Пузынину даже на полемику с Крашевским, его ироническими описаниями: «не могла простить сравнение башен костелов в Вильно с пальцами, торчащими из рваной перчатки! Эти башни, похожие на руки, вознесенные в мольбе к небу, в блеске заходящего солнца, захватывали нас снова и снова при возвращении с прогулки на Погулянку» (326).
Пузынина подробно описала маршруты прогулок — и вновь эмоциональная привязанность сочетается с точными и главными деталями, создающими цельную картину пейзажа и целостный образ общества того времени, среды обитания автора: «Как же весело ехали на Антоколь — зимой около полудня… или весной на закате солнца в открытом возке, и потому на Антоколь, — хотя Вильно богато красивыми окрестностями, — что на Антоколь лучше дорога, нет ни горок, как в Бельмонт, ни песка, как в Закрет, и ближе, чем в Верки, и больше разнообразия, чем в Рыбишках; да и потому, что весь модный свет, молодой, и даже набожный, шел и ехал туда охотнее, чем куда бы то ни было…
Преддверием к Антоколю были бульвары — свежие, веселые когда-то бульвары, засаженные несколькими рядами итальянских тополей от берегов Вилии до Арсенала, где проходила широкая дорога для экипажей; сегодня эти бульвары превратились в суровые и грозные окопы, ощетинившиеся пушками, направленными на спокойных жителей города» (45). Воспоминания перемежаются грустным возвращением к действительности. Далее следует нарядное описание молодых пани и паненок, расцвечивающих бульвары своими нарядами и юной свежестью. Описываются обычаи и развлечения, из которых складывается мозаика разнообразной виленской жизни. «Ежегодно какая-нибудь диковинка, вытягивающая литовский грош, появлялась в Вильно», — замечает автор: слон в 1826 г., панорама Парижа в 1828-м, ярмарки (123, 127).
И последняя зима перед восстанием 1830 г., когда еще все оставалось в прежнем привычном состоянии ненарушимого мира молодости, о котором автор вспоминает с добродушной иронией: «…с Университетом, еще цветущим, с молодежью, не раскиданной по степям, по чужой земле и под землею своею, с карнавалом, который должен был нас, младших, освободить, как личинок, от коротких платьиц и с крылышками из крепа выпустить в свет; эта зима, повторяю, вопреки всем положениям, — ведь ничто еще не надломилось в механизме края, — не была менее оживленной, а город менее людным» (118).
Город рисуется как единая, хоть и разношерстная семья, об этом свидетельствует, например, заметка от 1830 г. (до восстания): когда вернулись несколько ранее осужденных (после процесса филоматов-филаретов), «все Вильно радовалось» (121).
С 1831 г. идут самые грустные воспоминания — о доходивших в провинцию печальных известиях: «пушки с открытой пастью, направленные на горожан, ожидали сигнала на свежих окопах, вырытых на месте прекрасных бульваров, а замковые ворота лежат в развалинах!..» (147).
Вильно теперь заполнено русскими войсками и польскими арестантами, польские аристократки, такие как Антонина Снядецкая, стараются помочь арестованным (151). Но есть и другое Вильно — под военными властями: «бедный город, вынужденный свои раны залеплять розовым пластырем, для виду смеялся и плясал на собственной могиле» (153), — пишет мемуаристка об участии в балах и праздниках из чувства страха, почти в приказном порядке.
Пузынина горевала о судьбах арестованных и сосланных и записывала под 1832–1833 гг.: «Зима 1832 года не пробуждала тоски по Вильно, где Дворец, жилище Сатрапа, обставленный мебелью сомнительного вкуса, пылающий ночами от искусственных огней, манил, как мотыльков на огонь, легкомысленную часть общества, забывавшего в прыжках под громкую музыку о братьях, тоскующих в степях или живущих хлебом чужбины во Франции» (164).
Воспоминания Пузыниной (сохранившиеся лишь в опубликованной части) рассказывают подробно, с тонкой наблюдательностью и писательским талантом, присущим автору, о жизни в литовской провинции на протяжении более полувека, о нравах и характерах, о деталях быта, о культурных интересах и увлечениях; они по праву могут считаться весьма ценным источником.
5. Паломничество: Станислав Тарновский
Профессор Краковского Ягеллонского университета Тарновский (Stanisław Tarnowski, 1837–1917) запечатлел Вильно 1878 года. Авторитетный критик и литературовед, автор работ о польской литературе XVI века, о Кохановском, Мицкевиче, Красинском, Сенкевиче, а позднее — шеститомной «Истории польской литературы», Тарновский приехал в Вильно как паломник — и к религиозным святыням, и к литературным. В его описании, озаглавленном «Из Вильно», много подробностей, фактографии, автор сосредоточен исключительно на описании города и его окрестностей. Но главным становится субъективное переживание событий, всего того, что происходит с повествователем, то есть автобиографические мотивы. И вступая в Вильно, и рассказывая о нем, автор исходит из некоторого уже готового представления: это город, отнятый у Польши Россией, город после подавления восстания 1863–1864 гг. Об этом Тарновский не забывает ни на минуту, этой его главной печалью и болью окрашено все описание.
Чтобы яснее представить атмосферу города, приведем отрывок из воспоминаний о 1860-х годах Полины Венгеровой: «После польского восстания шестидесятых годов генерал-губернатором Вильны был назначен пресловутый Муравьев. С беспримерной жестокостью этот человек попытался искоренить проблему и русифицировать всю губернию. Он жил в своем дворце как в плену. Даже каминная труба в его кабинете была замурована. В этом кабинете он спал, и там же, у него на глазах, ему готовили на спиртовке пищу. Он жил в такой изоляции, что ходили слухи, будто он вообще не существует. Он был страшным призраком, мифическим персонажем… Почти каждый день под грохот барабанов всходили на эшафот несчастные люди. И всегда при этом толпа, охваченная болью и состраданием, а часто гневом и яростью, собиралась к месту казни и провожала приговоренного в последний путь… Понятно, что народ, помнивший о бесчисленных жертвах польского восстания, жил в угрюмом ожидании очередных жестокостей. Все, христиане и евреи, годами носили траур. Появляться в светлом платье даже на торжестве, в театре или в концерте считалось преступлением»[169].
М. Н. Муравьев был генерал-губернатором Северо-Западного края в 1863–1865 гг., за жестокость его прозвали «вешателем».
Об этом недавнем прошлом не забывает Тарновский, совершающий в 1878 г. паломничество к святым местам культуры: «…первая минута страшная. Находишься в Вильне, в Вильне Гедимина и Ягеллы, св. Казимира и Сигизмунда Августа, Барбары и Мицкевича, но если бы не знал, можно было бы подумать, что находишься где-то в губернском городе современной России». Все здесь на каждом шагу напоминает, что это «несчастное Вильно Муравьева, повешенное, расстрелянное, обезлюдевшее и разоренное…»[170].
Даже Остра Брама не производит на автора впечатления: он въезжает в город с юга, как раз в ворота, за которыми (точнее, над которыми) находится часовня с образом, и вот «прямо с вокзала, со всем прозаичным и комичным хозяйством проезжего, узлами, торбами и т. п., в фиакре, подъезжаешь с противоположной стороны, так, что нужно хорошо отъехать от Острой Брамы, чтобы, обернувшись, смог ее увидеть: все это словно нарочно устроено, чтобы испортить впечатление или его не допустить вовсе» (304–305).
Общий вид несколько примиряет с действительностью: «На левом берегу, где обрываются горы, располагается город на большом, слегка наклонном пространстве, башни костелов торчат со всех сторон и сияют на солнце, на правом зелень садов и парков сходит к самой воде, маленькие усадьбы прячутся под деревьями, <…> замыкают горизонт лесистые взгорья, черные сосны которых остро рисуются на голубом с золотом небе в свете заходящего солнца…» (346).
Описание города у Тарновского как бы двоится: с одной стороны, ожидания, неоправдавшаяся романтическая настроенность на встречу с прекрасным, наполненным историческими памятными деталями величественного прошлого; с другой — у автора заранее сложилось отношение к городу как к отнятому Россией, месту, где распоряжаются российские чиновники и бюрократы, военные; следы их присутствия опошляют для него Вильно, лишают его красоты и очарования.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius"
Книги похожие на "Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Валентина Брио - Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius"
Отзывы читателей о книге "Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius", комментарии и мнения людей о произведении.