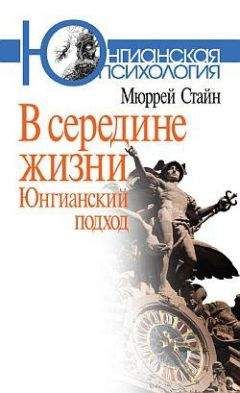Михаил Берг - Литературократия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Литературократия"
Описание и краткое содержание "Литературократия" читать бесплатно онлайн.
В этой книге литература исследуется как поле конкурентной борьбы, а писательские стратегии как модели игры, предлагаемой читателю с тем, чтобы он мог выиграть, повысив свой социальный статус и уровень психологической устойчивости. Выделяя период между кризисом реализма (60-е годы) и кризисом постмодернизма (90-е), в течение которого специфическим образом менялось положение литературы и ее взаимоотношения с властью, автор ставит вопрос о присвоении и перераспределении ценностей в литературе. Участие читателя в этой процедуре наделяет литературу различными видами власти; эта власть не ограничивается эстетикой, правовой сферой и механизмами принуждения, а использует силу культурных, национальных, сексуальных стереотипов, норм и т. д.
почти неотличим от приговских текстов 1980-х годов.
(210) См.: Шмидт 1994.
(211) См. подробнее главу «О статусе литературы».
(212) Ср. утверждение Айзенберга о первых, слишком «благодушных» реакциях на опыт соц-арта. «В них увидели издевательское (или издевательски-серьезное) передергивание официального языка — как бы специфическую форму борьбы с советской властью, представленной на этот раз соцреализмом». Однако впоследствии стало понятно, что «дело не в советской власти и не в соцреализме», нарабатывались «приемы борьбы с любой властью, в том числе и той, которая не воспринимается как власть. С властью идей (любых идей), с властью искусства (любого искусства), с властью привычного для человека образа самого себя» (Айзенберг 1997: 246–247).
(213) Ом.: Bataille 1970.
(214) Приговский герой может быть поставлен в ряд не только с дядей Степой С. Михалкова, но также с героями «Конного стражника» Ф. Соллогуба и «Виктора Вавича» А. Житкова.
(215) Экспансия проводится и на интертекстуальном уровне; редукция пре-текста может также быть объяснена стремлением низвести чужую речь на уровень, лежащий ниже того, на котором та находится: в результате «творческая личность приносит себя в интертекстуальную жертву, чтобы — парадоксальным способом — устранить превосходство над собой иного „я“» (Смирнов 1994: 43). Для Смирнова, чем решительнее культура отрицает прошлое, тем она сильнее упрощает пре-тексты в процессе интертекстуальной работы.
(216) Ср. замечание Эпштейна о том, что концептуализм не спорит с прекрасными утверждениями, «а раздувает их до такой степени, что они сами гаснут». Для Эпштейна, таким образом, концептуализм есть не столько преодоление, сколько продолжение российской утопически-идейной традиции, ее двойное отражение (см.: Эпштейн 1989: 233–234).
(217) О мимикрии см. также: Lacan 1981.
(218) Ср.: Шмидт 1994.
(219) Ср. утверждение Айзенберга: «Некрасов начал именно с нуля: со слова, взятого в минимальной, нулевой выразительности. В самых первых своих опытах он практически совпал с западным вариантом конкретизма (о котором не ведал)» (Айзенберг 1998b: 176).
(220) Бурдье 1994: 170.
(221) Подробнее см. главу «Критерии и стратегии успеха».
(222) Подробно конструкцию сорокинского текста разбирает Элен Мила в: Мила 1999: 53–60. В этом же сборнике, целиком посвященном исследованию «поэтики» Сорокина, помещены и другие актуальные работы, в частности: Burkhart 1999: 9-20, Engel 1999: 139–150, Drubek-Mayer 1999: 197–212, Hânsen 1999: 213–222.
(223) Ср., например, утверждение И. Смирнова, что постмодернистский текст принципиально стремится к неоригинальности, к компрометированию культа нового, свойственного авангардизму (Смирнов 1994: 330). См. также: Connor 1989. Однако отрицание нового как уникального (или тоталитарного) нарратива не отменяет предположение о новом как рецепции отрицания нового; иначе говоря, новым оказывается и синтез и анализ. На этих основаниях и зиждется современная критика постмодернизма, в рамках которой постмодернизм рассматривается как продолжение модернизма, а не принципиальное отрицание его. См.: Drucker 1995.
(224) См.: Сорокин 1999b.
(225) Как отмечает Гройс, читатель Сорокина всегда ждет, «когда же это начнется, т. е. когда обманчивая повествовательная идиллия сменится описанием чего-то ужасного. Такое ожидание характерно, кстати, прежде всего для различных жанров массовой литературы, как, скажем, детективной или эротической. Умудренный опытом читатель обычно покорно прочитывает вводные „реалистические“ страницы <…> в ожидании того, когда наконец появятся первый труп или первое обнаженное тело. Именно с этого момента чтение становится „интересным“, хотя степень правдоподобности описываемого одновременно заметно убывает» (Гройс 1997: 433). Говоря о том, что Сорокин предлагает две конкурирующие возможности чтения — референциональную и нереференциональную, Гройс отмечает, что вторая не отменяет первую, вызывающую у читателя «приятный ужас», являющийся верным признаком массовой, развлекательной литературы.
(226) О значении ритуала для сорокинской прозы одним из первых написал Георг Витте (см.: Witts 1989: 145–168).
(227) Ср. авторское высказывание в одном из интервью: «Вообще, возможность насилия человека человеком — это настолько впечатляющий феномен, что он меня не только постоянно возбуждает, но и стимулирует мое творчество» (Постмодернисты 1996: 124). Эпатирующий демонизм подобного утверждения очевиден.
(228) Курицын 1998а: 322.
(229) См.: Северин 1990.
(230) Ср.: «В его „Сердцах четырех“ действуют не люди, а куклы: это развитие чеховского театра марионеток. Эти кукловоды сделали для разрушения коммунизма не меньше, чем Солженицын, — они разрушают формы магического, литературного, коммунистического сознания. Именно с их появлением этот процесс делается необратимым…» (Парамонов 1997: 53).
(231) Для Серафимы Ролл именно деконструкция смысловых значений, о которой писал Деррида, придает Сорокинскому повествованию тот игровой момент, который располагает к себе читателей и стимулирует динамику развития повествования. «Читатель извлекает удовольствие от прозы Сорокина, узнавая в ней игру с тоталитарной сущностью понятий. Элемент насилия снимается осознанием насилия, от которого насилие теряет свою агрессивную сущность» (Постмодернисты 1996: 18). Однако осознание насилия совершенно не обязательно должно приводить к тому, что насилие теряет свою агрессивность, насилие как способ демонстрации и присвоения власти остается принуждением и одним из наиболее плодотворных способов перераспределения властных функций.
(232) См.: Кокшенева 1996: 230–234.
(233) Позиция разочарованного романтика намеренно прокламируется Сорокиным и в различных интервью. «Для меня мир, в котором мы живем, довольно тяжел. В нем больше разочарований, огорчений, чем радостей. Сегодняшний мир создает у меня банальное ощущение тюрьмы. Это чувство играет не последнюю роль в моей неоптимистической направленности» (Постмодернисты 1996: 126). Сорокин сознательно манифестирует романтическую составляющую своего имиджа, так как ориентируется на апроприацию энергии разочарования.
(234) Ср., например, спорное соображение М. Рыклина о принципиальной нерефлексивности сорокинского дискурса: «Правило нормальной литературы гласит: „только придавая форму, только означивая, я даю правильную логику события, только в среде литературно должного оно предстает в своей истине“. Сорокин держится другого правила, перечеркивающего первое: „изымать из языка любое отношение к нему со стороны говорящего, не означивать, только флексии, никакой рефлексии“. Реален только дискурс как первоопыт языка, и недискурсивные предпосылки как первоопыт зримого, оба они локальны и не пересекаются ни в одной точке. В плане визуального как недискурсивных предпосылок языка эта литература стремится прямо продолжать работу глаза, сообщать невидимое эмоциональным зрением, но видимое физическим» (Рыклин 1992: 100). Однако, изымая из языка отношение к нему со стороны говорящего, Сорокин формирует принципиально рефлексивный дискурс, вызывающий ожидаемые реакции со стороны получателя сообщения: как отправитель сообщения, Сорокин предлагает получателю участие в перераспределении власти, аккумулируемой референтом, а механизмом перераспределения и является рефлексия по отношению к нему.
(235) Надо, однако, иметь в виду, что для Сорокина, как, впрочем, и любого автора, манифестирующего смерть литературы с помощью литературного дискурса, утверждение о «конце литературы» не более чем прием, позволяющий присвоить властные функции ее восприемника (будь это функции врача, наблюдающего за агонией, священника, принимающего покаяние, могильщика или патологоанатома). Говоря о том, что литература для него — мертвый мир, Сорокин все равно претендует на права наследника. «Все рассуждения о том, что какой-то роман написан очень живо, звучит для меня дико. Литература в моем понимании — это бумага, покрытая какими-то значками. Литература вообще — мертвый мир, как некое клише. Любое текстуальное высказывание или любое лирическое письмо изначально мертво и фальшиво» (Постмодернисты 1996: 127). Характерно, что смерть текстуального высказывания манифестируется в рамках очередного текстуального сообщения.
(236) Липовецкий 1998: 296.
(237) Ср. отношение к новому «материалу» у Сорокина в сценарии «Москвы» у Е. Деготь — Деготь 1999с: 225.
(238) Вайль & Генис 1994: 197.
(239) См. подробнее: Пригов 1999. Косвенным свидетельством убывания радикальности литературных практик по сравнению с другими, более актуальными инструментами является, в частности, сообщение О. Кулика о проекте пересадки матки собаки человеку для рождения нового существа не как о научном эксперименте, а как о проекте художественного перформанса, преодолевающего власть антропологических границ. О других способах преодоления власти см.: Бренер & Шурц 1999.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Литературократия"
Книги похожие на "Литературократия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Берг - Литературократия"
Отзывы читателей о книге "Литературократия", комментарии и мнения людей о произведении.