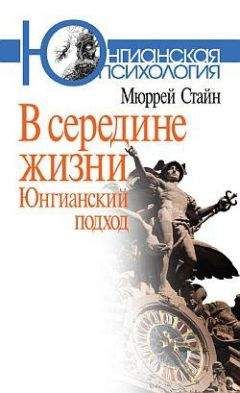Михаил Берг - Литературократия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Литературократия"
Описание и краткое содержание "Литературократия" читать бесплатно онлайн.
В этой книге литература исследуется как поле конкурентной борьбы, а писательские стратегии как модели игры, предлагаемой читателю с тем, чтобы он мог выиграть, повысив свой социальный статус и уровень психологической устойчивости. Выделяя период между кризисом реализма (60-е годы) и кризисом постмодернизма (90-е), в течение которого специфическим образом менялось положение литературы и ее взаимоотношения с властью, автор ставит вопрос о присвоении и перераспределении ценностей в литературе. Участие читателя в этой процедуре наделяет литературу различными видами власти; эта власть не ограничивается эстетикой, правовой сферой и механизмами принуждения, а использует силу культурных, национальных, сексуальных стереотипов, норм и т. д.
Особенностью современного искусства (и литературы) является смещение акцента с области порождения предметов искусства на область порождения и функционирования новых авторских функций. Поэтому еще одной причиной отсутствия влияния литературного андеграунда на поле современной российской литературы является его ориентация на традиционную практику порождения новых текстов и отсутствие понимания ценности нового художественного поведения. В то время как андеграунд, по мнению Пригова, есть не интенсификация традиционного, а явление нового типа художественного поведения530. Традиционное поведение состоит в инвестициях риска оказаться плохим или хорошим художником (плохим или хорошим писателем), в то время как поле современного искусства ценит прежде всего риск оказаться вообще непризнанным в качестве художника (в результате чего поле деятельности художника оценивается как неискусство).
Эта граница фиксируется как единственно актуальная для современного мирового искусства (и плодотворная в смысле преодоления ее и достижения успеха), однако преодоление этой границы в поле российского искусства (и тем более литературы) ввиду незавершившихся процессов автономизации обладает существенно меньшей продуктивностью. В этих условиях наиболее распространенной оказывается стратегия присоединения к полю литературы пространства массовых коммуникаций, и в частности газет и популярных журналов. Как заметил Г. Морев, статус пишущего в газете сегодня гораздо выше статуса писателя, поэта, художника531. Аргументируя свой тезис, Г. Морев сравнил разные механизмы функционирования текста и значение новой функции автора в культуре. Более высокий статус массмедиа привел к тому, что литературное событие впервые происходит не на страницах «толстых» журналов, а в области массовых коммуникаций. В результате наиболее актуальной оказалась «изысканная аналитическая журналистика», использующая жесткий новостной повод в качестве фиктивной мотивации для присвоения власти литературного дискурса. Литературный факт, понимаемый, вслед за Тыняновым, как динамический элемент литературной конструкции, сместился в область массмедиа, обладающей куда большей и реальной автономией, нежели литературное поле, и куда большим объемом социального, экономического и символического капитала, выставленного для обмена.
V. Теория и практика русского постмодернизма в ситуации кризиса
Отсутствие необходимых институций для разворачивания радикальных авторских стратегий на фоне исчезновения литературоцентристских тенденций вызывает ощущение глобального кризиса русской культуры. В некоторых случаях этот кризис интерпретируется как катастрофа. Для В. Мизиано, катастрофа (в отличие от кризиса, который, возникнув в одной из сфер, не предполагает непременной цепной реакции) носит обвальный характер, потому что прежде всего эта катастрофа институциональная532. В этой ситуации постмодернизм почти в равной степени полагается как ответственным за катастрофическое положение русской культуры, так и единственным выходом из кризиса. Сам постмодернизм при этом получает то расширенное толкование, когда он становится синонимом почти всего пространства современной литературы и искусства (симптоматичны попытки рассматривать в качестве постмодернистского текста не только «Мастера и Маргариту» и «Архипелаг ГУЛАГ»533, но и, по сути дела, весь советский соцреализм534, а также пушкинский «Евгений Онегин» и гоголевские «Мертвые души»535), то принципиально зауженное, когда постмодернизм рассматривается лишь как синоним «московского концептуализма». Существуют, однако, попытки доказать, что постмодернистский дискурс вообще не приложим к российской ситуации. Для Мажорет Перлоф, русский постмодернизм — всего лишь оксюморон и носит знаковый, символический, этикетный характер, а то, что называется постмодернизмом, не что иное, как симуляция постмодернизма, тематизирующая традиционные для русской культуры процессы мимикрии любых нетрадиционных культурных импульсов в поле западноевропейской и американской терминологии. Формально текст, атрибутируемый русскому постмодерну, действительно может быть прочитан и рассмотрен в виде постмодернистского дискурса (что часто и делается), но по существу это нечто и принципиально другое. М. Липовецкий, отмечая неприложимость к советской и постсоветской ситуации многих концепций постмодернизма, выработанных в контексте западной цивилизации, ссылается на мнение Н. Конди и В. Падунова: «По мнению исследователей, „словарь постмодернизма“ не претерпел существенных изменений в постсоветской транскрипции и напоминает родственный язык, записанный в другом алфавите: и в западном, и в русском постмодернизме решающую роль сыграли смерть мифа, конец идеологии и единомыслия, появление много — и разномыслия, критическое отношение к институтам и институализированным ценностям, движение от Культуры к культурам, поругание канона, отказ от метанарративов и некоторые другие факторы»536.
Кажется, так происходило при всех заимствованиях европейских художественных течений в России — русский байронизм, переведенный с английского, стал не столько байронизмом, сколько новым русским эстетическим явлением. Психологический роман или роман воспитания, надолго прописавшийся в России, не столько продолжал традиции Руссо, Флобера, Бальзака или Диккенса, сколько породил традицию русского психологического романа, имеющего свои не только легко распознаваемые координаты, но и ценностные ориентиры. Буквальный перевод создавал принципиально ученические или механистические транскрипции, вроде той, которую производил ранний Брюсов, внедрявший в умы читающей публики свои версии-подстрочники поэтики французского символизма. Казалось бы, нечто подобное произошло и с русским постмодернизмом, если бы не отличия, можно сказать, онтологического свойства.
Если особенности западного постмодернизма были связаны с попытками залатать «бреши в интеллектуальной ткани модернизма, казавшейся неизнашиваемой (поскольку она была соткана не из материи, но из релятивных ценностей)» (Гаспаров 1996: 29), в результате чего модернистский антипозитивизм превратился в «неопозитивизм», то ситуация возникновения российской практики, впоследствии интерпретированной как постмодернизм, определялась в равной степени невозможностью как модернизма, так и антипозитивизма. Поэтому основные положения западного постмодернизма — вопрос о снятии границы между элитарным и массовым искусством (Лесли Фидлер)537, «смерть автора» (Мишель Фуко и Ролан Барт)538, процесс дезавуирования традиционной физиологии (Делез и Гватари)539, кризис позднего капитализма (Ф. Джеймесон)540, информационная революция, породившая компьютеры, власть массмедиа и Интернет (Бодрийяр и Умберто Эко)541, утрата былыми дискурсами власти авторитета и замена их диктатом рынка (Фуко и Батай)542, значение контекстуализации (Дженкс)543 и замена теории «репрезентации» деконструкцией (Деррида)544 — не имели в начале 1970-х годов для русской культуры соответствующих транскрипций. «Вот почему если для западного постмодернизма так существенна проблема дифференциации, дробления модернистской модели с ее пафосом свободы творящего субъекта, смещения границ между центром и периферией и вообще децентрализация сознания (последний фактор, в частности, выражает себя в концепции „смерти автора“ как смыслового центра произведения), то русский постмодернизм рождается из поисков ответа на диаметрально противоположную ситуацию: на сознание расколотости, раздробленности культурного целого, не на метафизическую, а на буквальную „смерть автора“, перемалываемого господствующей идеологией, — из попыток, хотя бы в пределах одного текста, восстановить, реанимировать культурную органику путем диалога разнородных культурных языков» (Липовецкий 1997: 301). Поэтому там, где западный постмодернизм имеет дело с фетишем (и его товарной сущностью), русский — с сакральной, точнее — сакрализованной, реальностью. Подмена приводит к тому, что возникает ощущение «отсутствия предмета речи — строго говоря, нет ничего такого, к чему можно было однозначно приложить существительное „постмодернизм“» (Курицын 1995: 198) в контексте русской культуры, ввиду чего оказывается корректнее говорить не о «постмодернизме», а о «ситуации постмодернизма», которая на разных уровнях и в разных смыслах отыгрывается-отражается в разных областях культурной манифестации. Применение термина «постмодернизм» и практика, атрибутируемая постмодерну, оказываются фиктивными, что проявляется как в теоретическом дискурсе, так и на способе осуществления различных стратегий.
Если, по мнению западных теоретиков, в рамках постмодернизма «мы отказываемся от иерархий, мы также отказываемся от дифференции» (Nittve 1991: 32), то русский постмодернизм только симулирует отказ от иерархий и различий в стилях и предпочтениях. И постмодернизм, и концептуализм (как первое или одно из наиболее характерных проявлений русского постмодернизма) в высшем смысле иерархичны и, конечно, не отказываются от предпочтений, что хорошо различала советская цензура, идентифицируя первые концептуальные тексты конца 1970-х — начала 1980-х годов как антисоветские. Цензура, как, впрочем, и сами авторы, прекрасно понимала природу того сакрального, которое деконструировалось в рамках постмодернистской работы, — о равенстве языков и стилей здесь можно было говорить только в русле идентификации постструктуральной терминологии как терминологии юридической. Возьмем классическое определение Ж.-Ф. Лиотара: «Постмодернистский художник или писатель находится в ситуации философа: текст, который он пишет, творение, которое он создает, в принципе не управляется никакими предустановленными правилами, и о них невозможно судить посредством определяющего суждения, путем приложения к этому тексту или этому творению каких-то уже известных категорий» (Lyotard 1982: 367). В то время как интерпретация концептуальной практики в первой половине 1980-х годов предполагала, что к концептуальному тексту, напротив, приложимо определяющее суждение в рамках известных категорий. В некотором смысле русский постмодернизм советского периода может рассматриваться как процесс контекстуальной мимикрии; однако симуляционная полистилистичность в равной степени легитимировала и скрывала появление определяющего суждения. Поэтому деконструкция советского властного дискурса воспринималась как деструкция, а игра стилями — как способ уклонения от однозначной юридической ответственности, что провоцировало истолкование художественных практик русского постмодерна как систему опознавательных знаков, призванных, с одной стороны, служить идентификации этих практик как современных и хорошо осведомленных в ситуации европейского искусства, с другой, скрывающих свою принципиально иную, нежели у окружающего социума, систему ценностей, которая таким образом имплицитно утверждалась. В этом смысле русский постмодернизм, в отличие от западного, никогда не был отягощен, если вспомнить Деррида, философией конца, не был концом конца, а воспринимался как конец тупика и альтернатива эпохи симулякров, подлежащих деконструкции.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Литературократия"
Книги похожие на "Литературократия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Берг - Литературократия"
Отзывы читателей о книге "Литературократия", комментарии и мнения людей о произведении.