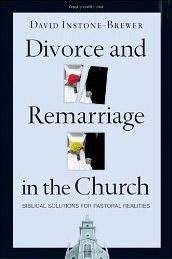А. П. Лебедев - Духовенство в Древней Вселенской Церкви
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Духовенство в Древней Вселенской Церкви"
Описание и краткое содержание "Духовенство в Древней Вселенской Церкви" читать бесплатно онлайн.
Исторические очерки А.П. Лебедева, Профессора Московского Университета
ДУХОВЕНСТВО ДРЕВНЕЙ ВСЕЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ (от времён апостольских до IX века)
Источник: http://www.agnuz.info/library.html
Если мы в заключение очерка состояние образованности в классе духовенства в изучаемое время (от IV до IX века) захотим дать себе отчет о причинах печального состояния дела, то должны будем принять во внимание следующие обстоятельства:
Уже в IV веке в среде духовенства встречались люди, которые находили, что лицам духовным излишне образование, что их дело учить святости и быть благочестивыми, а это возможно и без науки (исключение составляют Иероним, Златоуст, Григорий Богослов).[638]Разумеется, распространение таких воззрений не могло быть благоприятно для научных стремлений в классе духовенства. Далее. Образованных лиц, если они искали духовной должности, не особенно поощряли, и бывали случаи, что их за их ученость просто-напросто изгоняли из числа пастырей. Даже в IV веке встречались факты подобного рода. В правилах поместного Сардикийского собора IV века, между прочим, читаем: «Надлежит со всею точностью наблюдать, чтобы человек ученый (σχολαστικος), если он удостаивается епископства, то не прежде поставлялся, разве когда последовательно пройдет должности чтеца, диакона, пресвитера, оставаясь в каждой из них немало времени» (пр. 10). Очевидно, человеку ученому не отдавалось никакого предпочтения перед самым простым. И конечно, человек образованный, не желая подвергать себя неприятностям низшего церковного служения, не шел в духовное звание. Этого мало. Нельзя было ожидать себе добра и в том случае, если образованный человек достигал епископства. За свою ученость он мог быть даже выгнан со службы. Тот же собор Сардикийский разрешает странный вопрос: как поступать с епископом, если он будет изгнан народом с кафедры за свои познания (прав. 17); «за познания», то есть за ревностное изучение божественных догматов — толкует позднейший церковный законовед, патриарх Вальсамон.[639] Если такие факты встречались, хотя бы и редко, они должны были отваживать людей образованных поступать в клир. Это главное. Но были и другие причины изучаемого явления, т. е. очень неблагосклонного отношения духовенства к науке. Мы знаем, что в церкви появилось стремление завести, так сказать, духовную цензуру, которая брала на себя обязанность определять, какие книги следует читать христианину, и в частности, духовному лицу, и какие нет. Уже в конце V века на Западе встречаем собор, под председательством папы Геласия составивший первый известный истории index librorum prohibitorum, т. е. список книг, запрещенных для христианского общества, следовательно, посягавший на свободу богословской науки. Этот index составлен частью под руководством названного папы Геласия, частью пополнен его преемником папою Гормиздою. Замечательно, какие книги внесены в этот index. Наряду с книгами еретическими поставлены — сочинения Тертуллиана, Климента Александрийского, сочинения Арнобия, Лактанция, Кассиана, известного писателя по аскетике, даже произведения Евсевия Кесарийского — историка; из сочинений Оригена были разрешены для чтения лишь те сочинения, какие не порицал блаженный Иероним, а прочие отвергнуты, и самое лицо Оригена осуждено, наконец, к запрещенным сочинениям отнесены Правила апостольские, книга Пастырь Ерма и др.[640] Понятно, как подобные запрещения должны были вредно действовать на образование духовенства. Развивавшаяся подозрительность к церковной литературе должна была дискредитировать в глазах христианского общества духовное просвещение к явной выгоде для обскурантов в среде духовенства. Много способствовало упадку образованности в духовенстве запрещение читать книги языческих классических писателей. Такое запрещение слышится как на Востоке, так и на Западе. Так, подвижник Нил Синаит (на Востоке) приказывает одному монаху очистить тот монастырь, где жил последний, от книг классической древности, объявляя, что книги эти «есть куча грязи».[641] Тот же Нил приказывает другому монаху отказаться от составления ораторских речей и от писания стихов, — первого требовал Нил на том основании, что эллинская мудрость отклоняет-де от Христа, низвергает на самое дно адово, а второго — на том основании, что составление стихов будто бы дело беспримерное в христианской церкви.[642] Нил жил в начале V века. Современник Нила св. Исидор Пелусиот развивает те же мысли. Так, он делает сильные упреки одному монаху за то, что он занимался чтением языческих писателей. «Скажи мне, — писал Исидор, — что предпочтительного у них перед тем, что есть у нас? Не преисполнено ли ложного и смешного то, чем так усердно они занимались? Бегай чтения постыдного, чтобы враг не внес в душу погибели страшнейшей и ужаснейшей прежнего нерадения и неведения», какое было у язычников.[643]На Западе подобные запрещения повторялись часто, и, без сомнения, оказывали свое действие. Блаженный Иероним рассказывал о себе, что ему однажды привиделся сон, будто он на Страшном Суде, и будто грозный Судия осуждает его за то, что он, Иероним, читает светские сочинения. Это так устрашило Иеронима, что он, снилось ему, дал следующую клятву пред престолом Всевышнего: Господи, если я когда-нибудь буду иметь светские книги, если буду читать их, это значит, что я отрекся от Тебя.[644] Очень понятно, какой смысл имеет рассказ Иеронима об его сне. На соборе Карфагенском в конце четвертого века прямо запрещено епископу читать светские — языческие книги.[645] Еще сильнее высказывается по этому поводу Григорий Великий, папа. Узнав, что один из епископов дает уроки по светским наукам, папа Григорий приходит в негодование, советует ему оставить это занятие на том основании, что одними и теми же устами нельзя воздавать хвалу Христу вместе с хвалами Юпитеру. «Ты сам подумай, — писал Григорий, — как преступно и неприлично поступают епископы, воспевающие то, что не согласится воспевать даже светский набожный человек». Григорий требует от вышеуказанного епископа, чтобы он отказался от занятий, как он выражается, — «вздорными светскими науками».[646] Какое значение подобные предписания должны были иметь для образования пастыря — это ясно само собой. Богословская наука может процветать только при том условии, когда она стоит в связи с лучшими проявлениями общей, светской науки. Вне связей с этой последней она мельчает и замыкается в тесном кругу, на какой указывают ей элементарные практические потребности. Нет сомнения, запрещение заниматься светскими науками отразилось печально на умственном строе духовенства древней церкви. К причинам, вызвавшим упадок образованности в духовенстве, нужно причислить и общий упадок научных стремлений,[647] который так наглядно выразился в средние века, начавшись много раньше.
III. Нравственное состояние духовенства во II и III веках
Каково было нравственное состояние духовенства в II и III веках? Предлагая себе подобный вопрос, мы не имеем в виду входить во все подробности нравственного состояния духовенства; в таком случае нам пришлось бы пересказывать целые биографии отцов и учителей церкви. Нам кажется, что мы выполним задачу историка, если разрешим вопрос: были ли пастыри этого времени достойны своего высокого назначения руководить христианами в истине и добре, или же нет? В каких более выпуклых исторических фактах выразилось это? Нравственный идеал пастыря II и III века отчасти можно изучить на тех церковных правилах, которыми указывалось, каких пастырей община должна была избирать себе. В известном памятнике Διδαχη (XV, 1) на этот счет говорится кратко: «Избирайте и поставляйте достойных епископов и диаконов, мужей кротких и несребролюбивых, истинных и испытанных». Подробнее предписания в так называемых Canones ecclesiastici, но они тоже общи. Здесь выражаются следующие требования от епископа, дьякона и даже чтеца — в большей или меньшей степени. «Нужно разузнать, — говорится в этом памятнике, — при поставлении пастырей, удерживаются ли они от грехов, сострадательны ли к бедным, честны ли, не пьяницы ли, не блудники ли, не корыстолюбивы ли или не болтуны ли, беспристрастны ли...»[648] и т. п.
А каким должен быть пастырь, главным образом епископ, в своих отношениях к пастве, идеал этот начертан в следующих внушительных словах Апостольских Постановлений (Кн. II, гл. 20) в древнейшей их части. «Епископ должен любить мирян, как детей, согревая и любя их страстно, как яйца, из которых должны вывестись цыплята, или держа их в недрах, как птенцов, из которых должны вывестись куры, — всех научая, всех, кого только нужно наказывать, бия, но не поражая. Кто из мирян вследствие бесчувствия и оцепенения погрузился в глубокий (нравственный) сон, и по причине тяжести сна забыл уже о требованиях христианской жизни, и так далеко ушел от собственного стада, что может быть пожран волками, того отыскивай, и вразумляя обращай и убеждай трезвиться и вселяй в него надежду». Епископ должен так далеко простирать свое попечение о спасении верующих, что «пусть даже он усваивает себе прегрешения другого и говорит ему: ты только обратись, а смерть за тебя возьму я, как Господь взял смерть за меня и за всех, ибо пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Ты, как пастырь любвеобильный и пастух усердный, считай стадо, и чего не достает, то разыскивай. Будучи врачом церкви Господней, ты употребляй врачевание, приличное каждому больному, лечи всячески и вылечивай». Теперь спрашивается: отвечали ли пастыри церкви II и III века своему идеалу? Мы должны заметить, что вообще пастырство этого времени своей ревностью о душевных пользах ближнего, об удовлетворении духовных потребностей народа, своим самоотвержением и искренностью представляет отрадное явление в церковной истории. Особенными достоинствами со стороны нравственного характера отличались такие пастыри, как Игнатий Богоносец и Поликарп Смирнский, запечатлевшие в своих писаниях высокий дух христианский, как Поликрат Эфесский, Дионисий Коринфский, Ириней Лионский, с полной готовностью и преданностью отдававшие себя на служение церковным интересам, как Киприан Карфагенский и Дионисий Александрийский, которые жили одной нераздельной жизнью с церковью и доблестно служили своему назначению. Укажем несколько частных примеров, которые бы с ясностью показывали, каких доблестных пастырей имела церковь этого времени. Примеры, на которые мы укажем, малоизвестны, но зато они внушительны, поучительны и, пожалуй, трогательны. Епископ Кесарии Палестинской Феотекн в гонение Валериана (Галлиена?) заявил себя при одном случае человеком, в высшей степени заботливым о твердости веры одного из своих пасомых. Евсевий вот как рассказывает о событии. Один военачальник, по имени Марин, по исповеданию христианин, должен был получить за свои военные заслуги знак отличия — виноградную ветвь; но какой-то завистник донес на Марина, что этот, как христианин, не может получать никаких отличий. Обвиненный потребован был на суд; судьи, узнав, что он действительно христианин, дали ему три часа на размышление: желает ли он оставаться христианином, или согласится отречься от Христа, в первом случае ему угрожает казнь. В эту-то решительную минуту местный епископ Феотекн является на помощь Марину. Неизвестно, как узнал епископ о случившемся на суде с Марином: от других ли, или сам был здесь и узнал о положении его. Как бы то ни было, но епископ не оставил без благовременной помощи несчастного. Он вышел навстречу Марину, взял его за руку, завел с ним беседу и увлек его в церковь. Здесь, на виду святилища, он вдруг откинул плащ у военачальника, и указывая одной рукой на меч, висевший при нем, а другой рукой на Евангелие, велел ему выбрать одно из двух — меч или Евангелие. Марин простер руку к Евангелию и тем дал знать, что он лучше умрет, чем, оставаясь военачальником, отречется от веры. Пастырь выполнил свой долг с такой предупредительностью, которая справедливо вызывает у историка Евсевия полную похвалу (кн. XII, гл. 15). Представим другой пример, рассказанный нам тем же Евсевием (VII, 24), пример, показывающий, с какою необычайной ревностью пастыри тех времен заботились о чистоте веры и правильности религиозных убеждений пасомых. В Египте в арсинойском округе епископ Непот распространял в обществе верующих хилиастические идеи, написал в разъяснение этого учения книгу, а потом умер. Когда стало известно о распространении такого учения Дионисию Александрийскому, он предпринял путешествие в арсинойский округ. Прибыв сюда, он созывает всех пресвитеров и поселян, ведет с ними беседу. В продолжение трех дней разбирает с ними книгу Непота. Внимательно выслушивает возражения, отвечает на них. В иных случаях не стыдится соглашаться со спорившими и уступать им, когда дело касалось вещей несущественных. Такой трехдневный диспут архипастыря с пасомыми имел самый счастливый успех: те, что прежде упорно держались хилиазма, отказались от заблуждения, заявив Дионисию, что не будут впредь ни держаться, ни защищать, ни проповедовать подобного учения. Вот пример того, как доблестные пастыри первенствующей церкви понимали свои обязанности и как старались служить пользе своих пасомых.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Духовенство в Древней Вселенской Церкви"
Книги похожие на "Духовенство в Древней Вселенской Церкви" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "А. П. Лебедев - Духовенство в Древней Вселенской Церкви"
Отзывы читателей о книге "Духовенство в Древней Вселенской Церкви", комментарии и мнения людей о произведении.