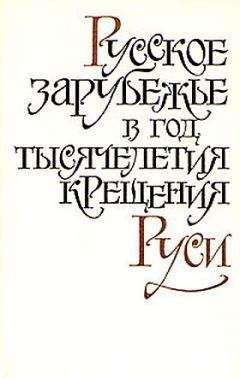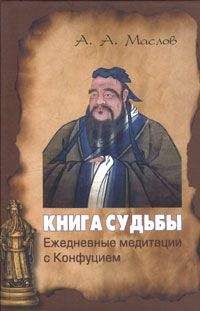Василий Зеньковский - Н. В. Гоголь
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Н. В. Гоголь"
Описание и краткое содержание "Н. В. Гоголь" читать бесплатно онлайн.
Книга приводится по изд. Судьбы. Оценки. Воспоминания - Гиппиус В., Зеньковский В. - Гоголь; Н.В. Гоголь, Logos, 1994
Источник электронной публикации - http://feb-web.ru/feb/gogol/critics/gzd/gzd-189-.htm
В Гоголе все же возрастала потребность обличения, — и, конечно, в основе этого лежал чисто моральный пафос. Он достиг своего максимума в той эстетической утопии, которая сложилась в его душе как своеобразное сочетание морализма и эстетизма. Отвержение низменной, пошлой жизни, отвращение ко всем непорядкам, которые он видел, как никто другой, вызвали в нем потребность осмеять неправду. Смех становится для Гоголя средством борьбы со злом, с неправдой, — и из этого родилась эстетическая утопия Гоголя, как сочетание эстетической антропологии и напряженного морального сознания, — как сочетание веры в силу эстетических переживаний и горячей потребности воспользоваться ими для морального воздействия на русских людей. Тут уже не было и следа эстетического гуманизма, тут была только надежда на то, что, представив в ярких красках все мерзости
262
жизни, можно как бы магически произвести благотворное действие на зрителей. Это была последняя ставка на эстетическую сферу, последний отзвук веры в мощь эстетического подъема, веры в целительное действие смеха, который вызывает отвращение от всего, что «позорит истинную красоту человека» («Развязка „Ревизора“»). Гоголь и решил собрать все отрицательное в русской жизни; вот что он пишет об этом в «Авторской исповеди»: «В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал...и решил посмеяться над всем». Гоголь надеялся на целительное действие смеха — и в этом был его утопизм, его утопическое ожидание какого-то магического воздействия на русских людей того, что было изображено в «Ревизоре». Он надеялся на очищающую силу смеха (о котором он сам сказал позже в «Театральном разъезде», что смех был «единственным честным лицом в «„Ревизоре“»), надеялся на то, что неправда, представленная в лицах, в живом действии, самим эстетическим действием пьесы будет способствовать моральному оздоровлению нравов России. Уже в этой эстетической утопии искусство было призвано на службу морали, — никакого «искусства для искусства», никакой «автономии» эстетического творчества уже здесь не было. Иными словами, здесь (в эстетической утопии) уже не было наивного эстетического гуманизма; искусство и вся эстетическая сфера признается здесь функцией моральной сферы[11]! Иначе говоря, эстетическая сфера призывается на службу тому, что, очевидно, «важнее», существеннее, чем эстетическая сфера, как таковая. Все это уже означало какой-то глубокий перелом в тайниках души Гоголя — примат эстетической сферы уже отодвигался, чтобы уступить место примату морального (точнее, как увидим, религиозно-морального) начала. В «Авторской исповеди» Гоголь говорит даже, что в эпоху перед созданием «Ревизора» и «Мертвых душ» он «увидел, что в сочинениях своих смеется даром, напрасно (!!), сам не зная зачем». Хотя это позднее самовосприятие Гоголя, но оно отчасти отвечает фактам.
5. Фактически вышло все иначе, чем ожидал Гоголь, — его эстетическая утопия провалилась, оставив какую-то грустную пустоту в душе. «Ревизор» имел исключительный, небывалый успех, т. е. с художественной точки зрения он вполне себя оправдал, но на Гоголя напала невыразимая тоска. В этом не только завязка всего дальнейшего духовного процесса в Гоголе, но и ключ к пониманию его.Чисто эстетический успех «Ревизора» совсем не интересовал Гоголя —
263
его эстетическая утопия была не в том, чтобы создать совершеннейшее произведение искусства, а в том, чтобы произвести определенное воздействие на русское общество. Сам Гоголь признает (в «Авторской исповеди»), что постановка «Ревизора» имела «потрясающее действие», — но какое? Одни были просто в художественном восторге, но без всякого сдвига в их моральном сознании, другие же, кто почувствовал, на что метил Гоголь в «Ревизоре», были смертельно обижены, т. е. тоже никакого «очищающего» переживания не испытали. Перед Гоголем во всей глубине стал вопрос, как же ему далее продолжать художественное творчество, — он споткнулся о какое-то духовное препятствие. Вот что писал Гоголь после представления «Ревизора» на сцене: «Еду за границу — разогнать ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники, как-то тягостно грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь... Пора мне творить с большим размышлением». Здесь ключ к тоске Гоголя: то, что разные лица стали нападать на него, что они требовали запрещения постановки «Ревизора», считая «Ревизор» злостным пасквилем, клеветой на русское чиновничество — все это, казалось бы, должно было бы радовать Гоголя: очевидно, он попал «не в бровь, а в глаз». В «Авторской исповеди» Гоголь, однако, писал, что «сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся с такой силой, читатель почувствовал грусть. Я сам почувствовал, что смех мой уже не тот, что был прежде». «Я почувствовал после «Ревизора» более, нежели когда-либо прежде, потребность сочинения полного, где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться». Это, конечно, не разочарование в смехе, как художественном средстве, а сознание, что творчество должно служить не только эстетическим задачам. Эстетическая утопия, надежда, что с помощью художественного творчества можно действовать в смысле «исправления» нравов, — провалилась совершенно. И отсюда возникает вопрос: какой же смысл в художественном творчестве, в созданиях искусства?.. Гоголь никогда не сомневался в высокой ценности искусства, но после того, как распалась его наивная система эстетического гуманизма (вершиной этого распада была повесть «Невский проспект» и история несчастного Пискарева), после того, как действие замечательной в художественном отношении комедии «Ревизор» показало, что никакого морального сдвига в жизни искусство не дает — бесспорный для Гоголя смысл искусства требовал какого-то нового осмысления. Эстетические искания Гоголя требовали того, чтобы найти это «осмысление» не в эмпирической сфере («неудача» «Ревизора» — как это переживал Гоголь — ясно это показала), а в том, что глубже, существеннее эмпирической
264
истории. Нужно было найти такую «базу» для мировоззрения, в которой соотношение эстетической и моральной сферы, художественного творчества и утилитарного использования его определялось бы не в линиях эстетического гуманизма. К этому привела Гоголя диалектика его идейных и художественных исканий,— и он скоро нашел свой новый путь — в религиозном миросозерцании, в религиозном пересмотре всех тем культуры.
6. Кризис 1836 года был кризисом в эстетическом сознании Гоголя. Высокие моральные задачи, которые он ставил себе всегда, та глубокая серьезность, которая изнутри держала его душу и не дозволяла просто упиваться художественными успехами, — все это оставалось незыблемым, но пришла для Гоголя пора «творить с большим размышлением». «Я огорчен, — писал Гоголь Погодину еще в мае 1836 г., — не нынешним ожесточением против моей пьесы; меня заботит моя печальная будущность». «Еду (то же письмо) разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои авторские обязанности и возвращусь... освеженным и обновленным». И тут же Гоголь прибавляет слова, которые показывают ясно, в каком напряжении шла у него внутренняя работа (подчеркнем еще раз: это письмо мая 1836 г.!): «Все, что ни делалось со мной, было спасительно для меня. Все оскорбления, все неприятности посылались мне высоким Провидением на мое воспитание. Ныне я чувствую, что неземная воля направляет путь мой — он верно нужен мне».
В Гоголе ожили религиозные размышления, знакомые ему с детства, — но теперь, когда многое рушилось для него, оказались вне внутренней связи эстетические искания и моральные идеи, — религиозное сознание по-новому осветило для Гоголя все — он в нем нашел выход, нашел и источник сил. Религиозный расцвет, который начинается у Гоголя с середины 1836 г., был, таким образом, имманентным событием, диалектически завершил ту драму распада эстетического гуманизма и эстетической утопии, о котором мы говорили. Здесь не было никаких внешних влияний, Гоголь сам вышел на путь религиозного пересмотра всех тем жизни в силу той особой диалектики внутреннего процесса в нем, который мы старались выше изобразить. Еще в 1836 году, уже уехав за границу, Гоголь писал Жуковскому: «Это великий перелом, великая эпоха моей жизни».
Действительно, в Гоголе — уже в новых тонах его внутренней жизни — проснулась творческая сила, которая его самого удивляла, так, что он пишет Жуковскому (тот же 1836 г.): «Кто-то незримый пишет передо мной могущественным жезлом». И тут же он пишет: «Еще один Левиафан затевается... священная дрожь пробирает меня заранее». Несколько
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Н. В. Гоголь"
Книги похожие на "Н. В. Гоголь" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Василий Зеньковский - Н. В. Гоголь"
Отзывы читателей о книге "Н. В. Гоголь", комментарии и мнения людей о произведении.