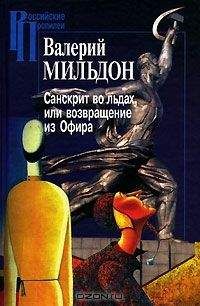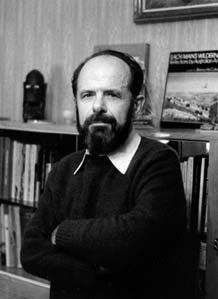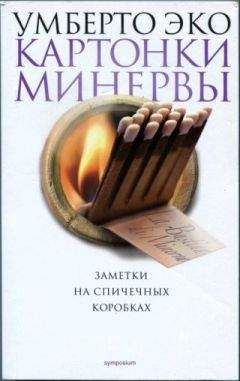Евгений Добренко - Политэкономия соцреализма

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Политэкономия соцреализма"
Описание и краткое содержание "Политэкономия соцреализма" читать бесплатно онлайн.
Если до революции социализм был прежде всего экономическим проектом, а в революционной культуре – политическим, то в сталинизме он стал проектом сугубо репрезентационным. В новой книге известного исследователя сталинской культуры Евгения Добренко соцреализм рассматривается как важнейшая социально–политическая институция сталинизма – фабрика по производству «реального социализма». Сводя вместе советский исторический опыт и искусство, которое его «отражало в революционном развитии», обращаясь к романам и фильмам, поэмам и пьесам, живописи и фотографии, архитектуре и градостроительным проектам, почтовым маркам и школьным учебникам, организации московских парков и популярной географии сталинской эпохи, автор рассматривает репрезентационные стратегии сталинизма и показывает, как из социалистического реализма рождался «реальный социализм».
Здесь мы подходим к самой сути российского социалистического проекта, часто вовсе неформулируемой и неосознаваемой: Революция стала для России с ее многовековой тягой в «европейский дом» (а то и амбициями стать учителями его хозяев) настоящими воротами в европейскую (а значит, и мировую) историю. У России появился шанс вхождения в Европу не просто со «своим», локальным, но именно с глобальным европейским проектом – через социализм. В этом вхождении потому и было столько «гордости», что в нем, по сути, снималась извечная российская травма европейской неполноценности. Однако, сколь бы важным это вхождение ни было, оно не могло не быть мнимым. Ничего не изменилось: Россия в XX веке входила в Европу так же, как и при Кюстине: через дискурс и репрезентацию, выдаваемые на этот раз за «социализм». Этот социализм – в соответствии с характеристикой российского «догоняющего развития» – можно определить как «догоняющий дискурс».
Спустя полтора десятилетия после выхода в свет книги Кюстина Николай Чернышевский опубликовал свою ставшую знаменитой диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности». Суть его эстетической теории, которая в сталинскую эпоху получила статус провозвестницы «ленинской теории отражения»[150] – «методологической базы» соцреализма, – сводилась к формуле: «Прекрасное – это жизнь». И не просто «жизнь», но «жизнь, как мы ее понимаем», «хорошая жизнь, какой она должна быть по нашим понятиям». Ирония состоит в том, что этот гимн «жизни» был создан одним из самых радикальных мыслителей страны, где «хорошая жизнь» по «понятиям» давно была поставлена на конвейер эстетического производства, не просто успешно соревновавшегося с реальностью, но повсеместно заменявшего ее.
Неудивительно, что этот «эстетический спор» в раскаленной атмосфере 60–х годов XIX века принял политический характер. Еще более радикальный критик российской действительности, Дмитрий Писарев, прозрев истинные корни «ослепления», выступил по поводу выхода книги Чернышевского с программной статьей «Разрушение эстетики», где утверждал, что Чернышевский, требуя «жизни», на самом деле стремился к разрушению ненавистной «эстетики» и замене ее… политической экономией: «Надо говорить с обществом в том тоне, к которому оно привыкло. Надо говорить так: «Вы, господа, уважаете эстетику. Займемтесь же вместе с вами эстетическими исследованиями». Привлекши к себе таким образом сердце доверчивого читателя, лукавый последователь новой идеи, конечно, займется своими эстетическими исследованиями так успешно, что разобьет всю эстетику на мелкие кусочки, потом все эти мелкие кусочки превратит поодиночке в мельчайший порошок и, наконец, развеет этот порошок на все четыре стороны. «Куда же ты, озорник, девал мою эстетику, которую ты уважаешь?» – спросит огорченный читатель, наказанный за свою доверчивость. «Улетела твоя эстетика, – ответит писатель, – и давно тебе пора забыть о ней, потому что немало у тебя всяких других забот». – И вздохнет читатель и поневоле примется за социальную экономию. […] Когда читатель будет таким образом обуздан и посажен за работу, тогда, разумеется, эстетические исследования, погубившие эстетику, потеряют всякий современный интерес и останутся только любопытным историческим памятником авторского коварства»[151].
Тут главный русский нигилист ошибся: не вчера научились «доверчивые господа» в России «уважать эстетику» и не «коварству» одного автора, закованного в той самой Петропавловской крепости, о которой в полном ужасе писал Кюстин, было ее разбить, а потому не суждено было стать его трактату «только любопытным историческим памятником».
Осколки зеркала русской революции, или Абсолютный Горький
В очерке о Ленине Горький заметил: «Русская литература – самая пессимистическая литература Европы; у нас все книги пишутся на одну и ту же тему о том, как мы страдаем. […] Каждый русский, посидев «за политику» месяц в тюрьме или прожив год в ссылке, считает священной обязанностью своей подарить России книгу воспоминаний о том, как он страдал. И никто до сего дня не догадался выдумать книгу о том, как он всю жизнь радовался». Примечательно это суждение не только характеристикой русской литературы, которая, хотя и была самой пессимистичной в Европе, смогла создать вокруг российской реальности некую эстетизирующую ее ауру, некое зачарованное волшебное царство на месте «свинцовых мерзостей» российской действительности. Здесь содержится целая эстетическая программа: борец с символистской «творимой легендой» призывает «выдумать книгу» (несмотря на тюрьму и ссылку!) о том, как автор «всю жизнь радовался». Суждение это выдает в Горьком художника, придерживающегося самого радикального эстетизма.
Можно предположить, что эта «позитивная эстетика», расположенная «по ту сторону» понятий правды и лжи, восходила к раннему Горькому (спор о правде и лжи он начал еще Лукой в пьесе «На дне») и впадала в полноводную реку соцреализма, для которого сами эти понятия нерелевантны. Именно в этом смысле можно говорить о том, что советские романы и фильмы о счастье не «лгут», в чем обвиняли соцреализм на протяжении десятилетий. Подобные обвинения основаны на ошибочном признании в качестве реальных эстетических установок утверждений самого соцреализма об «отражении» им некоей «правды жизни».
Нам представляется, что основой соцреализма является все же не столько метасюжет (описанный Катериной Кларк как переход от стихийности к сознательности[152]), сколько коллизия реальность/идеал: соцреализм не есть нарратив; он есть дискурс, производящий – при посредстве нарратива – реальность. Вся история советской эстетики до провозглашения соцреализма в 1932 году свидетельствует о том, что именно здесь были сосредоточены основные споры.
Еще в 1923 году Троцкий писал о «новой государственной театральности»[153]. Идеи эти носились тогда в воздухе. Развивая их, режиссер Николай Евреинов утверждал, что революция должна «вывести нас на дорогу новых одухотворенных, облагороженных, проникнутых коллективной театральностью форм быта»[154]. Откликаясь на эти призывы, один из ведущих левых эстетиков Борис Арватов заявлял, что это позиция «эстетизаторов жизни»: «Они не умеют найти, не видят, не воспринимают эстетики самой действительности, – жизнь им кажется чем‑то недостаточным и требующим восполнения. Им хочется взять эстетику напрокат у вне–бытового искусства, у искусства, противопоставленного действительности»[155]. Эта «деэстетизаторская» установка, которую теория соцреализма будет воспроизводить бесконечно (по сути, так называемая «теория бесконфликтности» и сводилась к утверждению «прекрасности» самой жизни), внутренне противоречива. В те же дни на тех же страницах «ЛЕФа» другой радикальный теоретик левого искусства Николай Чужак утверждал, что задачей искусства является «реализация той воображаемой, но основанной на изучении действительности антитезы, в выявлении которой заинтересован завтрашний день […] т. е. под знаком нового и нового процесса вечно обновляющейся и развивающейся изнутри материи»[156]. Здесь важна, во–первых, мысль об искусстве как о реализации воображаемой действительности (Чужак даже утверждал, что искусство – это «коллективное выковывание из самой жизни новых образцов»[157]), а во–вторых, прозрение знаменитой формулы Жданова о «жизни в ее революционном развитии» за десять лет до введения самого соцреализма (Чужак, вполне по Жданову, призывал «вскрыть новую действительность, таящуюся в недрах современности»[158]).
Однако было бы упрощением сводить вслед за Б. Гройсом весь генезис соцреализма к авангарду. Последовательными противниками ЛЕФа выступали в 1920–е годы перевальцы. Организатор и ведущий теоретик «Перевала» Александр Воронский в программной статье «Искусство как познание жизни и современность» отстаивал свою теорию искусства как «миметическую» и «познавательную». Вслед за Белинским, он утверждал, что «прежде всего искусство есть познание жизни». В процессе творчества художник пересоздает жизнь, в результате «создается в воображении жизнь конденсированная, очищенная, просеянная, – жизнь лучшая, чем она есть, и более похожая на правду, чем реальнейшая реальность»[159]. Белинский, как известно, полагал, что поэт «не изображает людей, какими они должны быть, но каковы они суть». Это, так сказать, идеальный «художник натуральной школы».
Но «каковы они суть»? В 1924 году (за десять лет до Жданова!) Воронский переводит формулу Белинского фактически в формулу… соцреализма: «Когда поэт или писатель не удовлетворен окружающей действительностью, он естественно стремится изобразить не ее, а то, каковой она должна быть; он пытается приоткрыть завесу будущего и показать человека в его идеале. Он действительность сегодняшнего начинает рассматривать сквозь призму идеального «завтра». Мечта, жажда, тоска по человеку, выпрямленному во весь свой рост, лежали и лежат в основе творческой работы лучших художников. Но это отнюдь не противоречит определению художества как познания жизни в форме живого, чувственного созерцания. Идеальное «завтра», действительность завтрашнего дня, новый человек, идущий на смену ветхому Адаму, только в том случае не является голой, отвлеченной мечтой, если противоположность этого «завтра» сегодняшнему дню относительна, то есть если это «завтра» зреет в недрах текущей действительности, если прообраз, отдельные свойства, черты будущего намечены, «носятся в воздухе». Иначе будет сказка, волшебный сон, миражи […] только строгое размышление или подлинно постигающее чувство видит такое будущее, которое действительно идет на смену прошлого и настоящего. Так что в этом случае истинный художник познает жизнь, в основе его работы лежит опыт»[160].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Политэкономия соцреализма"
Книги похожие на "Политэкономия соцреализма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Евгений Добренко - Политэкономия соцреализма"
Отзывы читателей о книге "Политэкономия соцреализма", комментарии и мнения людей о произведении.