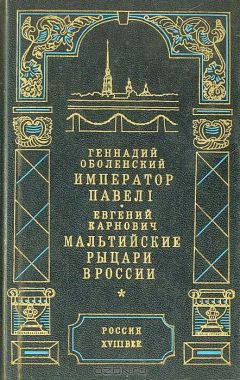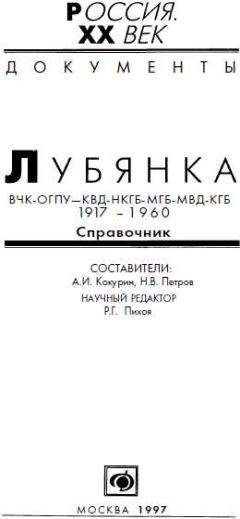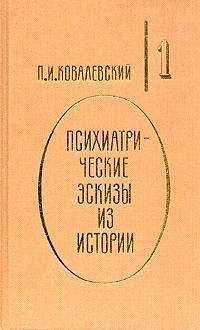Павел Милюков - Воспоминания (1859-1917) (Том 2)
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Воспоминания (1859-1917) (Том 2)"
Описание и краткое содержание "Воспоминания (1859-1917) (Том 2)" читать бесплатно онлайн.
4. КАК ПРИНЯТА БЫЛА ВОЙНА В РОССИИ?
Как принята была вообще в России война 1914 года? Сказать просто, что она была "популярна", было бы недостаточно. На этом вопросе нужно остановиться теперь же, во избежание недоразумений в дальнейшем. Конечно, в проявлениях энтузиазма - и не только казенного - не было недостатка, в особенности вначале.
Даже наши эмигранты - такие, как Бурцев, Кропоткин, Плеханов отнеслись к оборонительной войне положительно. Рабочие стачки - на время прекратились. Не говорю об уличных и публичных демонстрациях. Что касается народной массы, ее отношение, соответственно подъему ее грамотности, было более сознательное, нежели отношение крепостного народа к войнам Николая I или даже освобожденного народа к освободительной войне 1877-1878 г., увлекшей часть нашей интеллигенции.
Но, в общем, набросанная нашим поэтом картина - в столицах "гремят витии", а в {184} глубине России царит "вековая тишина" - эта картина оставалась верной. В войне 1914 г. "вековая тишина" получила распространенную формулу в выражении: "мы - калуцкие", то есть до Калуги Вильгельм не дойдет.
В этом смысле оправдывалось заявление Коковцова иностранному корреспонденту, что за сто верст от больших городов замолкает всякая политическая борьба. Это - то заявление, которое вызвало против Коковцова протесты его коллег, вроде Рухлова или даже Кривошеина, обращенные к царю: надо "больше верить в русский народ", в его "исконную преданность родине" и в его "безграничную преданность государю".
Жалкий провал юбилейных "Романовских торжеств" наглядно показал вздорность всех этих уверений. Конечно, русский солдат со времен Суворова показал свою стойкость, свое мужество и самоотверженность на фронте. Но он же, дезертировав с фронта в деревню, проявил с неменьшей энергией свою "исконную преданность" земле, расчистив эту свою землю от русских лендлордов. Были, стало быть, какие-то общие черты, проявившиеся в том и другом случае, которые заставляют историка скинуть со счетов этот русский "балласт", на котором просчитались царские льстецы в вопросах высокой политики, - как просчитался Витте при выборах в Думу.
Когда-то русский сатирик Салтыков отчеканил казенную формулу отношения крестьянина к тяготевшим над ним налогам: "ион достанет", "ион" не "достал", так же как "ион" и не мог на фронте пополнить своим телом пустоту сухомлиновских арсеналов. "Вековая тишина" таила в себе нерастраченные силы и ждала, по предсказанию Жозефа де-Местра, своего "Пугачева из русского университета"...
Переходя от русского "сфинкса" к русской "общественности", мы должны признать, что ее отношение к войне 1914-1918 гг. было несравненно сложнее, чем отношение тех же кругов к войнам 1850-х и 1870-х годов. Интеллигентская идеология войны подверглась в гораздо более сильной степени иностранным влияниям, пацифистским и социалистическим. Реалистические {185} задачи прежде всего, обороны, а затем и использования победы, если бы она была исходом войны, - как-то отодвигались на второй план и находились у общественных кругов под подозрением.
Оборона предоставлялась в ведение военных, а использование победы - в ведение дипломатов. Общественные круги не могли, конечно, отказаться от участия в обороне, но участие в обсуждении плодов победы принимали только в смысле ограничительном, осуждая выяснение положительных целей, как проявления незаконного "империализма". Положительное же отношение к самой войне и к ее реальным задачам предоставлялось на долю наступающего, то есть в данном случае - Германии.
Но в Германии представление о войне принимало мистический оттенок. Война считалась каким-то сверхчеловеческим явлением, возвышающим дух и крепящим силу народа. Так учили пангерманисты и германские генералы в стиле Бернгарди.
Войну нельзя было обсуждать, а надо было принять, как принимают явления природы, жизнь и смерть, или как веление свыше - для осуществления миссии, данной народу покровительствующим божеством для свершения его исторической судьбы.
Наше отношение к войне, конечно, ни к той, ни к другой крайности не подходило. С точки зрения реалистической, нашей ближайшей задачей было объяснить навязанную нам войну, ее происхождение, ее достижимые последствия. На этом общем понимании смысла войны, ее значения для России, ее связи с русскими интересами предстояло объединить русское общество. На меня, в частности, выпадала эта задача, как на своего рода признанного спеца. Ко мне обращались за объяснениями, за статьями, и я шел навстречу потребности, группируя данные, мало известные русскому читателю, и делая из них выводы о возможных для России достижениях.
Мои печатные объяснения в журналах, специальных сборниках, наконец, в Ежегодниках "Речи" могли бы составить несколько томов. Естественно, что я сделался предметом критики со стороны течений, несогласных принять войну в этом реалистическом смысле - {186} или вовсе ее не приемлющих. Для примера этой критики я напомню один закрепленный за мною эпитет, широко распространенный в левых кругах в то время.
Меня называли "Милюковым-Дарданелльским", - эпитет, которым я мог бы по справедливости гордиться, если бы в нем не было несомненного преувеличения, созданного враждебной пропагандой, в связи с незнанием вопроса. В Ежегоднике "Речи" за 1916 год можно найти проект решения этого вопроса в смысле, для меня приемлемом до соглашения 1915 г. Сазонова с союзниками (Привожу эту цитату: "Пишущий эти строки неоднократно высказывался в том смысле, что простая "нейтрализация" проливов и международное управление Константинополем не обеспечивают интересов России. Права интернациональной торговли в Черном море, несомненно, должны быть вполне обеспечены, по возможности, не только во время мира, но и во время войны. Исходной точкой для обеспечения этих прав мог бы служить доклад комиссии международного союза арбитража, представленный на конференцию союза в Брюсселе в 1913 г. (я сам готовил доклад для следующей конференции. - П. М.) ...В состав этих прав (минимальных. - П. М.) не входит ни отказ от суверенитета над берегами проливов, ни обязательство срыть укрепления проливов, ни обязательство пропускать военные суда через проливы... Между тем, право суверенитета над берегами и право возводить укрепления вполне признано за Соед. Штатами в Панамском канале договорами Гей-Паунсфота (1901) и Гей-Брюно-Варилья (1904). Режим этого канала и должен служить образцом для будущего режима проливов под суверенитетом России. Дальше этого идет лишь требование о запрещении военным судам проходить через проливы. Но это требование неизбежно вытекает, как из всей предыдущей истории русских претензий в проливах и особенно из прецедентов 1798, 1805, 1833 гг., так и из того обстоятельства, что Черное море есть закрытый бассейн, а не одна из мировых междуокеанских дорог. Прибрежным государствам Черного моря, конечно, должно быть предоставлено право свободного прохода военных судов наравне с Россией". (Прим. автора).).
Здесь еще не предполагается овладение Константинополем, обоими берегами проливов и ближайшими островами; но, конечно, признается, что самая "позиция, занятая Германией", "создала исключительно благоприятное положение для осуществления Россией ее главнейшей национальной задачи".
В то же время я отметил признание французского писателя Гошиллера, {187} что мое мнение "опирается не на старую славянофильскую мистическую идеологию, а на громадный факт быстрого экономического развития русского юга, уже не могущего более оставаться без свободного выхода к морю".
Широкие общественные круги с этими конкретными соображениями не считались. Даже приемля войну, они считали необходимым оправдать ее в более возвышенном смысле и искали компромисса между пацифистскими убеждениями и печальной действительностью. В этих попытках примирить оправдание массового убийства с голосом человеческой совести нельзя было не принять основной идеи. Так появились и широко распространились такие формулы, как "война против войны", "последняя война", "война без победителей и побежденных", "без аннексий и контрибуций" - и особенно приемлемая и понятная формула: война за освобождение порабощенных малых народностей. Все эти формулы открывали путь вильсонизму, Версалю, Лиге Наций. В Россию они пришли с некоторым запозданием, в переводе с французского.
Вообще говоря, царская Россия была заранее заподозрена в неприятии демократических лозунгов. Пацифисты Европы тяготились союзом с ней, как с неизбежным злом. Даже такой реалист, как Клемансо, прекрасно понимавший национальные интересы Франции и отчаянно за них боровшийся, уже после войны приветствовал освобождение союзников от идеологии старого русского режима, хотя бы при посредстве большевиков. "Постыдный Брест-Литовский мир, - писал он, - нас сразу освободил от фальшивой поддержки союзных притеснителей (то есть России. - П. М.), и теперь мы можем восстановить наши высшие моральные силы в союзе с порабощенными народами Адриатики в Белграде, - от Праги до Бухареста, от Варшавы до северных стран... С военным крушением России, Польша оказалась сразу освобожденной и восстановленной; национальности во всей Европе подняли головы, и наша война за национальную оборону превратилась силой вещей в {188} освободительную войну". Мы можем теперь критиковать Клемансо и доказывать, что именно недостаточность войны за национальную оборону повредила цели освобождения "малых народностей". Тогда "освобождение" было еще впереди и оправдывало самую национальную оборону, как цель низшего порядка. Союзные правительства могли заключать с Россией "тайные договоры", но общественное мнение требовало отказа от "тайной дипломатии", публичного обсуждения "целей войны", намеченных вильсоновской программой и включавших освобождение "малых народностей", "порабощенных" не только Австро-Венгрией и Турцией, но и союзной Россией, которую русские эмигранты-сепаратисты уже объявили "тюрьмой народов". Изъятием из подозрений пользовались лишь русские социалисты, члены Второго интернационала, а для русской интеллигенции либерального типа создавалось в демократической Европе довольно затруднительное положение.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Воспоминания (1859-1917) (Том 2)"
Книги похожие на "Воспоминания (1859-1917) (Том 2)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павел Милюков - Воспоминания (1859-1917) (Том 2)"
Отзывы читателей о книге "Воспоминания (1859-1917) (Том 2)", комментарии и мнения людей о произведении.