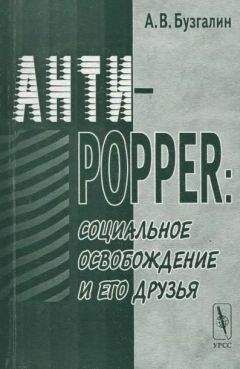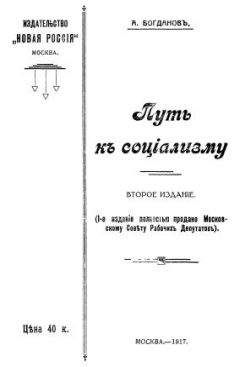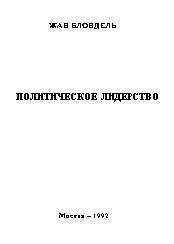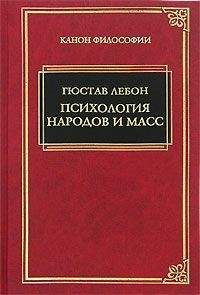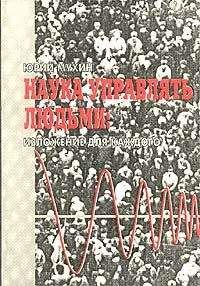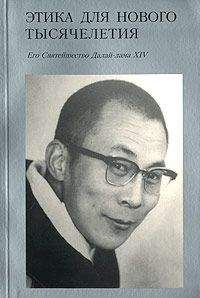Робин Кори - Страх. История политической идеи

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Страх. История политической идеи"
Описание и краткое содержание "Страх. История политической идеи" читать бесплатно онлайн.
Это книга о страхе, в особенности в его отношении к современной политике. Под политическим страхом автор подразумевает переживание людьми возможности определенного ущерба их коллективному благополучию — боязнь терроризма, панику в результате роста преступности, тревогу из-за упадка нравственности — или же запугивание людей властями либо отдельными группами.
Бунтари шестидесятых полагали, что личность есть активный деятель; что она знает свои интересы и убеждения и страстно им привержена. И в самом деле, знание и приверженность побуждали человека атаковать баррикады ограничений — систему Джима Кроу, семейные устои, Пентагон, поскольку он верил: эти преграды препятствуют достижению его целей. Если личность бездействует, то потому, что перед ней стоят барьеры. Брошенный им вызов означает риск и жертвы, что может повлечь потерю карьерных и иных перспектив, а в каких-то случаях — и самой жизни. Опасность пугает людей и порой приводит их к бездействию19. Таким образом, для появления страха требуется реальное присутствие двух субъектов: исполненной решимости личности и сил общественного порядка. Но либерализм тревоги осветил сознание убеждений и интересов личности как проблему, а силы общественного порядка превратил в неосязаемый эфир и обратил, таким образом, страх в тревогу. Поскольку приверженцы либерализма тревоги считают, что современной Америке недостает объединяющих институтов, то личность они представляют себе непрочным объектом, продуктом распада. С другой стороны, так как личность слаба, она не может участвовать в строительстве объединяющих институтов20. На место присутствия явилось отсутствие; на место страха пришла тревога.
Один из самых красноречивых симптомов поворота от страха к тревоге — ведущиеся на протяжении последних двух десятилетий дискуссии по проблеме идентичности. Поводы для этих дискуссий были самыми разными: тщательно спланированные споры на тему политкорректности, научные дебаты о национализме и этнической принадлежности, противопоставление политики признания политике распределения. Но используемая в этих дискуссиях терминология и лежащие в их основе постулаты остаются неизменными. По мнению многих участников дискуссий, наиболее животрепещущие политические вопросы относятся не к распределению властных полномочий или ресурсов и не к ожесточенной борьбе за равенство и экспроприацию. Нет, политика включает насущные вопросы групповой принадлежности и отчуждения (кто принадлежит сообществу, а кто нет, кто я и кто ты) и порождаемое этими вопросами неослабевающее беспокойство относительно границ личности и общества, группы и нации. Дэвид Миллер говорит об этом так: «Представляется, что не так важно, способствует государство развитию свободного рынка, выбирает плановую экономику или предпочитает что-то среднее. Более важно, где проходят границы государственного вмешательства, кто участвует в процессе и кто из него исключается, какой используется язык, какая религия поддерживается, какая культура процветает»21. Сейла Бенхабиб добавляет: «Обсуждение идентичности и различия — это политическая проблема, встающая перед демократиями в мировом масштабе». Она считает, что, в отличие от «борьбы за богатство, политическое влияние и доступ к ресурсам, которая характеризовала политику буржуазии и рабочего класса на протяжении XIX и первой половины xx веков», сегодня баталии ведутся о том, что Юрген Хабермас определил как «грамматику форм жизни». А вот формулировка Сэмюэла Хантингтона: «После холодной войны основные водоразделы между народами не носят идеологический, политический или экономический характер. Они лежат в сфере культур»22.
Хотя в 1960-х годах оппозиционные интеллектуалы не обращались к вопросам идентичности, они говорили о ней как об инструменте управления. Как полагали эти мыслители прошлого, господствующие элиты распределяли различные группы — расовые, классовые, половые — по принципу вертикали, т. е. одна группа оказывалась над другой и получала больше возможностей распоряжаться ресурсами, более высокий статус и более широкие властные полномочия. Уже в 1982 году теоретик феминизма Катарина Маккиннон озвучила сущность данного распределения возможностей в дискуссии с Филлис Шлэфли. Феминисток, по словам Маккиннон, мало интересует, желательны или нежелательны социально обоснованные различия как таковые. Их беспокоят различия, которые «обусловливают подчинение, ограниченность возможностей» и порождают «социальное бессилие»23. Такое политическое видение различий пробуждает интерес скорее к страху, нежели к тревоге, так как возникает и укрепляется благодаря вертикальному расслоению в обществе. Страх был инструментом в руках сильных, обращенным против слабейших, и реакцией сильных на существование возможности того, что в один прекрасный день слабейшие лишат их привилегий24. Но современные исследователи проблемы идентичности изучают общество, организованное по горизонтальному принципу, и потому основным предметом их внимания является тревога. Они говорят: мы разделены на группы не по схеме «верх — низ», а по схеме «центр — обочины». Организуется группа по признакам расовой, этнической, религиозной, национальной или культурной принадлежности, она не может быть уверена в прочности и стабильности своих границ. Они слишком проницаемы, и членов группы беспокоит возможность, что чужаки просочатся внутрь группы сквозь прорехи в границе и тогда экзистенциальный характер группы и ее фундаментальное единство окажется под угрозой. Поскольку люди не уверены в том, где именно начинается и заканчивается их группа, они испытывают острую необходимость «отделить себя от того, что не есть ты»25. Иначе говоря, борьба за идентичность происходит от тревоги за нерушимость границ, и в результате интенсивность мер по их охране удваивается. Невольно возрождая старый дискурс о политическом отступлении26, теоретики идентичности приписывают политическую остроту, преодолевающую все другие конфликты, тревогам о себе и других внутри и вне группы, нации и враждебных групп.
Чтобы быть уверенными, интеллектуалы не заводят споров об идентичности в вакууме: после холодной войны дискуссии о принадлежности и исключенности грозят ввергнуть в хаос целые общества; теоретики чувствуют себя вправе проводить некоторые направляющие исследования27. Но эти теоретики идут дальше. Они интерпретируют заявки на идентичность как политическое возвращение глубочайшего, изначального ощущения неспокойного состояния человека. Хантингтон писал: «Нации и народы пытаются найти ответ на самый коренной вопрос, с которым люди могут сталкиваться, — кто мы?» Идентичность, по словам Чарльза Тейлора, «означает нечто похожее на понимание того, кто мы есть». Тех, кто ведут борьбу за идентичность, воодушевляет чувство, что «существует определенный путь бытия человеком, и это есть мой путь». Когда мы отказываемся признавать этот образ существования, то приносим ущерб человеку, делаем его пленником «ложного, искаженного и неполного образа существования». Политика должна помогать людям, которые стремятся идентифицировать себя с нацией или иной культурной группой, потому что, как поясняет Миллер, «идентифицировать себя с нацией, ощутить себя неотъемлемой ее частью есть законный путь к пониманию своего места в мире»28. Или, говоря определеннее, политика есть попытка отождествить себя с нацией или другой культурной группой.
Поскольку либерализм тревоги высоко оценивает самовыражающуюся личность, но беспокоится из-за ее деструктивности; он стремится к такой политике, которая позволила бы открыть путь для индивидуального самовыражения без его дезинтегрирующих последствий. По этой причине приверженцы либерализма тревоги приветствуют неполитические или антиполитические институты гражданского общества; их заботы и опасения носят социальный и культурный, но не идеологический или партийный характер. Именно эти институты и объединения соединяют в себе достоинства самовыражения и взаимосвязи, позволяют человеку открыть, кто он есть, не провоцируя нарушения порядка и дезинтеграцию. По мнению Этциони, гражданское общество ценно тем, что оно побуждает нас «прибегать к неполитическим институтам». Элштейн полагает, что местные сообщества должны получать поддержку, поскольку в них нет идеологического максимализма: их «главное устремление в том, чтобы сохранять, а не приобретать», их цель — «защита и поддержание того, что осталось от образа жизни». Гражданские общества, по словам Тейлора, «часто привержены задачам, которые мы обычно считаем неполитическими»29. Идеальной формой гражданского общества является диалог: «Диалог — это не координация действий разных индивидов, а общее действие в прочном, неизменяемом смысле; это наше действие. В определенном отношении — воспользуемся наиболее очевидным сравнением — это танец группы или пары, работа двух человек, распиливающих бревно»30. Темы разговоров могут варьировать от музыки Моцарта до сегодняшней погоды, поскольку «говоря житейским языком, мы стоим на разных основаниях, когда начинаем разговор о погоде». В диалоге мы не просто передаем информацию отдельной личности. Нет, мы создаем между нами общую вселенную, имеющую для нас персональное значение. Диалоговая модель — идеальная форма политики, выразительная и укорененная, коллективная, а не вызывающая раскол. «Какое отношение весь этот разговор о диалогах имеет к республикам?» — задается вопросом Тейлор. «Это важно для них», поскольку «их воодушевляет чувство непосредственного общего блага»31.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Страх. История политической идеи"
Книги похожие на "Страх. История политической идеи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Робин Кори - Страх. История политической идеи"
Отзывы читателей о книге "Страх. История политической идеи", комментарии и мнения людей о произведении.