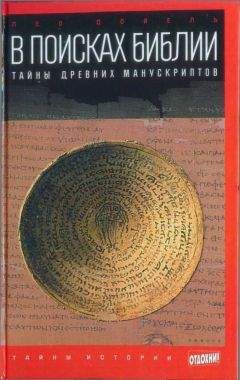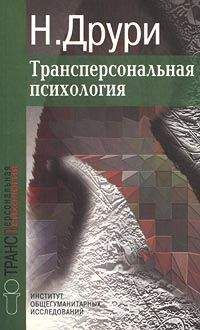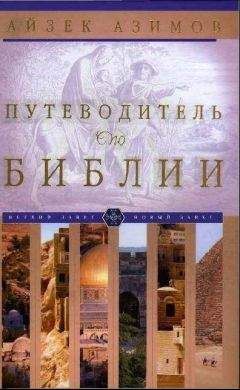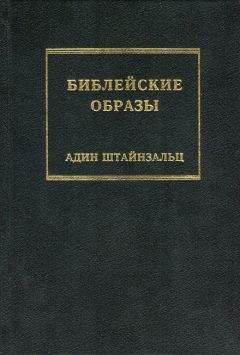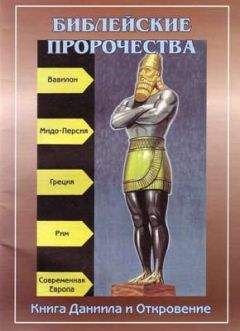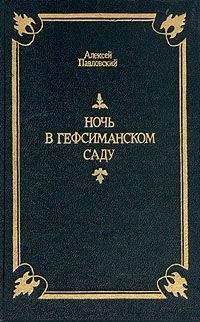Симонетта Сальвестрони - Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского"
Описание и краткое содержание "Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского" читать бесплатно онлайн.
Если для объяснения этого эпизода используем отрывок из Исаака Сирина, почувствованное Кирилловым, стих из Евангелия от Иоанна (12, 24), дорогой Достоевскому и ставший эпиграфом к «Братьям Карамазовым», то Матреша, являясь жертвой, в глубине своей сути не подвержена злу: она может быть принята — вследствие крайнего оскорбления, перенесенного этим существом, маленьким и беззащитным, — среди «избранных» из Откровения от Иоанна, именно среди тех, кто «пришли от великой скорби; омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца» (Ап 7, 14). Одновременно с этим для Ставрогина, совершившего зло, она является тем болезненным, но плодотворным зерном, которое умирая, проросло в его сердце и уже принесло первые плоды.
Кажется внешне противоречивым то, что Кириллов, способный признать присутствие Божественной воли во всем тварном, даже самом мерзком и отвратительном, кончает жизнь самоубийством, взяв на себя в посмертном письме преступления Петра Верховенского. Однако внимательный анализ мыслей, к которым безотчетно приходит герой, обнаруживает пропасть, ставшую основой краха его существования.
Кириллов может воспринять гармонию мира и добра, но, как оговаривается, разоблачая себя, он «не способен родить»[110] — произвести на свет новое видение мира внутри себя. Теория самоубийства как акт самоутверждения и экстатического восприятия красоты и полноты бытия остаются в нем двумя противостоящими равносильными полюсами. Для понимания всей сложности этого героя, важными являются излюбленные им места из Евангелия и их интерпретация. Кириллов читает Откровение Иоанна беглому каторжнику Федьке, его привлекает место о Страшном суде, где утверждается, что «времени уже не будет» (Ап 10, 6), а Шатову цитирует стих из Евангелия от Марка об окончательном утверждении Царства (Мк 12, 25). «Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута? В Евангелии сказано, что в воскресении не будут родить, а будут как ангелы Божии» (10, 450—451). Кириллов осознает начало пути («Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: "Да, это правда, это хорошо"») и всем своим существом стремится к его концу. Однако он убежден в том, что «конец уже достигнут». Таким образом, Кириллов пропускает весь путь и помещает себя и весь мир сразу в Небесный Иерусалим, не пытаясь распутать неразрешимые противоречия в глубинах самого себя и окружающей его реальности. Лишенный того, кто помог бы ему раскрыть смысл его существования и тех евангельских отрывков, которые важны для него, он поддается влиянию Петра Верховенского до саморазрушения.
По другому поводу, как увидим, и Ставрогин становится жертвой той же самой логики. Это очевидно уже во сне, где образ паука противопоставляется счастью предыдущей сцены: герою не удается соединить эти два образа и создать новое видение.
Послание Лаодикийской церкви
Поведение Ставрогина во время встречи с Тихоном подобно поведению посетителей старца Амвросия. С одной стороны, в нем есть некоторая ирония и уверенность в самодостаточности («Мне ничего не нужно ни от кого выпытывать <…> Я никого не зову в мою душу, я ни в ком не нуждаюсь, я умею сам обойтись» (11, 10—11)). Одновременно в нем присутствуют простодушие и откровенность, совершенно длй него непривычные.
Герой приходит к старцу с обычным для него чувством превосходства и убежденности во власти над другими — черты, ставшие основой его жизни. Отсюда страх потерять то, чем обладаешь, и, вместе с тем, желание, чтобы кто‑то снял с тебя маску, ставшую невыносимой, и увидел таким, каков ты есть: испуганным, неуверенным, нуждающимся в других. Ставрогин может свободно сказать своему собеседнику: «Знаете, я вас очень люблю», — потому что первый раз в жизни видит человека, готового принять его таким, как есть, и читать в душе его, не причиняя зла.
Этот диалог, трудный для Ставрогина сам по себе, становится еще сложнее от того, что герой приготовил уже ответы, ожидаемые им от старца и связанные с его личной интерпретацией тех мест Евангелия, вокруг которых строится беседа. Именно в этом смысле важен отрывок, непосредственно предшествующий цитированию Послания Лаодикийской Церкви. И опять не Тихон, а Ставрогин предлагает стих Писания (Мф 17, 20): «В Бога веруете? <…> — Верую. — Ведь сказано, если веруешь и прикажешь горе сдвинуться, то она сдвинется… впрочем, вздор. Однако я все‑таки хочу полюбопытствовать: сдвинете вы гору или нет?» (11, 10)[111].
Этот стих является ответом Иисуса на вопрос учеников: «почему мы не могли изгнать его?», относящийся к исцелению бесноватого, совершенному Христом. Цитирование этого евангельского отрывка для героя романа, только что поведавшего о своих ежедневных видениях сатаны, является неслучайным. Подвигнутый отчаянной необходимостью во внутренней перемене, Ставрогин измыслил тяжелейший для себя «подвиг» публичного покаяния. Однако при этом косвенно обнаруживается другая возможность. Его вопрос, заданный старцу, является забавной попыткой героя, который первый раз приближается к миру духовности с смешанным чувством ненасытности и скептицизма. Ставрогин хочет понять, может ли Тихон, святой человек, обладая чудотворной силой, освободить его от зла сразу же. Таким образом, в своей интерпретации отрывка из Евангелия от Матфея Ставрогин использует категории, близкие ему с детства: логику власти, манипулирование чужой жизнью[112]. На это предложение, напоминающее третье искушение сатаны, который хотел бы сделать из Христа всемогущего Мессию (см.: ЈТк 4, 10—13), Тихон отвечает очень кротко, разрушив ожидания своего собеседника.
Послание Лаодикийской Церкви, прочитанное в романе сразу же после этих фраз, является предметом толкования почти двадцативековой давности. Будучи введенным в контекст «Бесов», оно приобретает таким образом особую силу и значение. Для героя, который слушает чтение, оно становится словом, адресованным в этот момент исключительно ему. Чтобы понять замысел Достоевского в этой ключевой главе, важно, как мне кажется, проанализировать почти каждое слово этого отрывка, поскольку каждая фраза евангельского текста освещает, благодаря своему сходству и, в то же время, отличию, самые глубокие и потаенные помыслы главного героя «Бесов» и его поступки. «Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Ап 3, 14–17).
Для этого Послания, в отличие от других Посланий Апокалипсиса, характерны необычная настойчивость в использовании иных наименований Христа и крайняя выразительность языка с его резким тоном в начале и теплотой в конце, которую некоторые исследователи интерпретировали как знак особой любви Христа, обращенной к тем, кто почти пал (см.: Ванни 1979; 148; Тарокки 1990). Читателям «Бесов» прилагательные, определяющие Того, Кто говорит, представляются полной противоположностью того, кем стал Ставрогин, что он искал и хотел в течение всей своей жизни.
В Послании Христос — Аминь[113], «Свидетель верный и истинный», то есть, истинное и полное соответствие воле Отца, в то время, как главный герой «Бесов», глубоко неискренний и неверный, был до этого момента выражением полного отрицания жизни, добра и счастья. В Откровении Иоанна Тот, Кто соглашается с проектом Бога и Кто всеми силами Его поддерживает, обращается к тем, кто движется в противоположном направлении, чтобы помочь Ему произнести то же самое.
Особого внимания заслуживают прилагательные, выражающие обвинение. Следует отметить их нюансы и отголоски в контексте Откровения Иоанна, поскольку они выявляют значение евангельского отрывка для самого героя «Бесов». Греческий термин фблбЯрпспт, — по–русски «жалок», — имеет в контексте Св. Писания, по утверждению Ванни (1979; 151), значение «быть тем, в ком ощущается нехватка какого‑то существенного элемента» (см.: Рим 3, 16; 7, 24; Иак 4, 9 и 5, 1). Греческое слово «ελεεινός», что по–русски означает «беден», в евангельском тексте имеет значение «заслуживающий сострадания, сожаления». В контексте романа эти два термина звучат, как прямое опровержение образа, созданного самим Ставрогиным, возвышающегося над всеми и не нуждающегося ни в ком. Именно боязнь показаться смешным, быть предметом сострадания других определит провал беседы со старцем. Еще Лаодикийская Церковь — «рфпчпт», что значит по–русски: «нищ», «слеп», «наг». Как Лаодикия перед Христом, главный герой «Бесов» предстает перед Тихоном, которому он верит и, одновременно, не верит, в своей жалкой наготе и духовной бедности, нуждающимся в сострадании и неспособным в одиночку разрешить трагедию своей жизни. Подобным же образом, самые замкнутые и гордые герои Достоевского, такие как Раскольников и Иван Карамазов, к которым хорошо подошли бы слова обличения из процитированного Послания, раскрываются в своей наготе только перед одним единственным персонажем, вызывающим их хотя бы частичное доверие (Соня, Алеша). Как и в Послании, Ставрогин «не горяч и не холоден». Ему знакомо состояние счастья и гармонии, испытанное во сне, но у него нет достаточной веры и убеждения, чтобы избавиться от собственных бед и оставить прежнюю жизнь[114].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского"
Книги похожие на "Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Симонетта Сальвестрони - Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского"
Отзывы читателей о книге "Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского", комментарии и мнения людей о произведении.