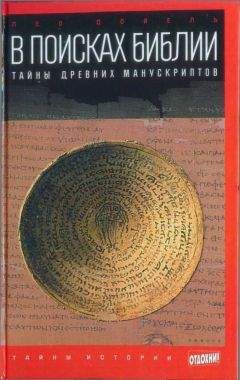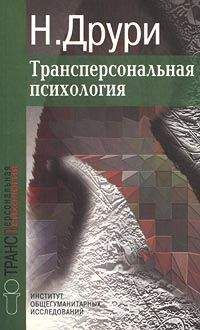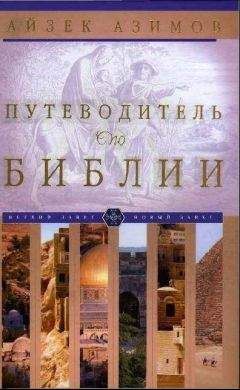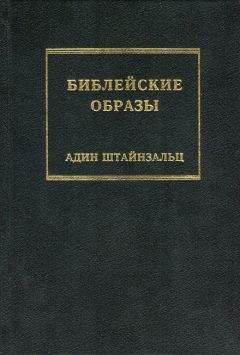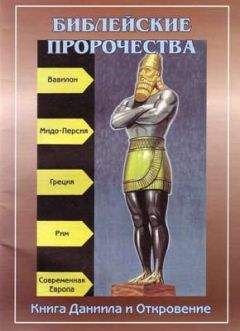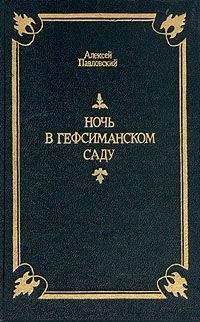Симонетта Сальвестрони - Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского"
Описание и краткое содержание "Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского" читать бесплатно онлайн.
Князь реагирует на чувство вины, неожиданно возникшее в нем перед уничтоженным Рогожиным, предлагая жертве собственных ошибок и иллюзий сострадание столь глубокое, что оно превращает их как бы в единое существо. «Рогожин изредка и вдруг начинал иногда бормотать, громко, резко и бессвязно; начинал вскрикивать и смеяться; князь протягивал к нему тогда свою дрожащую руку и тихо дотрагивался до его головы, до его волос, гладил их и гладил его щеки… больше он ничего не мог сделать! ‹.‚.› он прилег на подушку, как бы совсем уже в бессилии и в отчаянии, и прижался своим лицом к бледному и неподвижному лицу Рогожина, слезы текли из его глаз на щеки Рогожина, но, может быть, он уж и не слыхал тогда своих собственных слез и уже не знал ничего о них…» (8, 506—507). В тот момент, когда Мышкин утешает убийцу, и слезы текут из его глаз на щеки Рогожина, он переходит из сознательного состояния в бессознательное.
Этот эпизод — единственный светлый момент, освещающий финал: любовь, очищенная от всякого зла, наконец‑то объединяет этих двух героев и приводит их к полному взаимному приятию. Каждый из них принимает на себя страдание другого. Таким образом, жертва и палач становятся единым и неделимым целым, и вина одного переплетается с виной другого. Именно здесь появляется первое зерно темы, которая пройдет лейтмотивом через весь роман «Братья Карамазовы». В последней сцене романа реализуется светлая идея, увиденная лишь на миг Ипполитом перед тем, как он принял противоположный путь: «Бросая ваше семя, ‹.‚.› вы отдаете часть вашей личности и принимаете в себя часть другой; вы взаимно приобщаетесь один к другому» (8, 336).
В контексте «Идиота» Рогожин нуждается в семенах света князя, а Мышкину необходимы семена разрушения Рогожина для того, чтобы вскрыть собственные темные стороны. Ночью, во время бдения над телом Настасьи Филипповны, Мышкин, утративший невинность, и Рогожин, очищенный и обновленный, даруют один другому беспредельную любовь, идущую от сердца.
Отсюда становится понятным, почему Достоевский столь сильно любил этот финал. Мышкин, ускользнувший из его рук в своем непредвиденном развитии, стал источником открытий и для самого автора. Наивным финалом романа мог бы быть успех князя в реальном мире, согласно замыслу писателя, документированному черновиками планов. Делая своего главного героя побежденным, он прославляет сложность и широту человеческого существа, которое может полностью понять себя только путем познания добра и зла, существующих в нем. В творческом поиске автора, поставившего целью представить «вполне прекрасного человека», именно финал «Идиота» и крушение Мышкина позволяют сделать качественный скачок, ведущий через старцев Зосиму и Тихона к Алеше Карамазову, призванному жить в миру, а не вне его.
Используя терминологию Апокалипсиса — и, в частности, глав о снятии печатей, упомянутых выше, — можно сказать, что два главных героя «Идиота» находятся среди персонажей Достоевского, жертв, «которые пришли от великой скорби; омыли одежды свои и убелили одежды свои кровию Агнца» (Ап 7, 14). То, что Мышкин безмолвно передает в конце своему брату–убийце, а вместе с ним и читателям, столь же важно, как и то, что передает Матреша в «Бесах»: это то болезненное, но плодотворное зерно, дающее всход в сердце Ставрогина.
Достоевский ничего не сообщает о пятнадцати годах, прожитых Рогожиным в Сибири, где на каторжных работах у него было много времени для размышлений и, возможно, для духовного возрождения (как это происходит с Раскольниковым), благодаря зернам света и любви, полученным от Мышкина. Несмотря на молчание эпилога, из всех героев, оставшихся в живых к концу романа, Рогожин является самым сложным и внутренне богатым, способным к духовному развитию, которое Достоевский раскроет в своих последующих героях, в частности, в страстном и буйном образе Мити из «Братьев Карамазовых».
Глава третья. «Бесы»
В роман «Бесы» введены два обширных евангельских отрывка и многочисленные евангельские цитаты. Идея, вокруг которой развивается замысел, принимает окончательный вид, судя по черновикам, не сразу, вплоть до того момента, когда после длительного перерыва летом 1870 г. в связи с тяжелыми приступами эпилепсии, все формируется вокруг двух центральных узлов. Первый — это разговор между Ставрогиным и Тихоном, представляющий исповедь главного героя, а также Послание Лаодикийской Церкви, цитируемое в начале и в конце их беседы. Другим же является эпизод с бесновавшимся из Гадаринской страны.
Как документировано в черновиках и письмах, Достоевский перерабатывает и отбирает материал и по ходу переносит на второй план первоначальную идею, а также идеологические проблемы, связанные с ней с тем, чтобы шире охватить тему присутствия зла в мире: тему, в решении которой ключевую роль играет Новый Завет.
В Дрездене, в последний период проживания с семьей за границей (август 1869 — июль 1871) писатель, с одной стороны, побужден глубоко потрясшими его событиями текущей действительности, в частности, преступлением П. Нечаева и его неоднозначностью; с другой — сильно увлечен идеей монументального произведения «Житие великого грешника», в котором, как и в романах ЈТ. Толстого, должна осуществиться попытка охватить весь жизненный путь главного героя и вместе с ним «150 лет русской мысли»[86]. Эту идею Достоевский с энтузиазмом выражает в письмах мая 1870 г., в период работы над первым вариантом романа «Бесы», представляемого им как произведение с достаточно скромными идеологическими целями[87].
Как показывают черновики (11, 65—173), первоначально главным героем книги должен был стать западник Т. Н. Грановский (в образе Степана Трофимовича), противопоставленный православному мыслителю К. Е. Голубову. Интерес писателя, однако, почти сразу же переносится на двух вымышленных героев: Князя (будущего Ставрогина) и студента Шатова, а также на их размышления и беседы вокруг идей Нечаева и Голубова. «Голубова не надо», — пишет Достоевский в черновиках (11, 135) и оставляет только Князя с его сомнениями и страданиями.
Летом 1870 г. обнаруживается неожиданная перемена. Большой, многообещающий роман, который в письмах был определен как «самое важное произведение жизни», перестал привлекать внимание Достоевского и оставлен. Одновременно все большую важность, вплоть до полного овладения писателем, приобретают «Бесы». «В конце прошлого года, — пишет Достоевский в октябре 1870 г., — я смотрел на эту вещь <…> как на сочиненную <…>. Потом посетило меня вдохновение настоящее — и вдруг полюбил вещь, ‹.‚.› и давай черкать написанное. Потом летом опять перемена: выступило еще новое лицо (Ставрогин — С. С.) ‹.‚.› так что прежний герой (Петр Нечаев — С. С.) стал на второй план. Новый герой до того пленил меня, что я опять принялся за переделку» (Письмо Н. Н. Страхову от 9/21 октября 1870 г. — 29 (1), 148). С этого момента, как отмечено в летних записях (11, 190—196), глава «У Тихона» становится центральной в романе.
Анализ черновиков и писем обнаруживает, что эта перемена родилась не под влиянием новой идеи, неожиданно захватившей автора, а скорее как результат переноса героев и тем из одного произведения в другое. Открытием для писателя стало осознание того, что самое жизненное и дорогое автору ядро «Жития» смогло сразу же найти место и конкретизироваться в создаваемом уже новом произведении.
Именно трудоемкий процесс написания «Бесов» выявляет те глубинные порывы, которые соответствовали автору в его поиске. Несмотря на уже составленные планы работы и на интерес Достоевского к философско–идеологическим вопросам тех лет, носители представленных в его романах идей (Раскольников, первоначальный вариант Шатова, Кириллов, Иван Карамазов) живут под тяжестью неразрешимых противоречий, которые заканчиваются провалом. Это происходит, как увидим в процессе анализа, от глубокого убеждения автора в гом, что ответы на проблемы бытия находятся не в абстрактных идеях, не в «голове», а (согласно творениям Отцов Церкви, поучениям оптинских старцев, и собственному опыту познания) в глубинах «сердца».
Окончательная редакция романа и замена православного мыслителя Голубова[88] Тихоном Задонским показывают со всей очевидностью, что идеологические споры тех лет интересуют Достоевского гораздо меньше, чем проникновение в глубины сознания своих героев. В «Бесах» этот процесс ведется не с идеологических позиций, а с опорой на вдохновленное Св. Писанием мировоззрение, выраженное в романе старцем, и неожиданно преображенным на пороге смерти Степаном Трофимовичем. Вводя такого героя как Тихон, Достоевский в полной мере осознавал новизну и важность этого образа не только для собственного творчества, но и для всей русской литературы. Из письма М. Н. Каткову: «В первый раз ‹.‚.› хочу прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой. Идеалом такого лица беру Тихона Задонского. ‹.‚.› Боюсь очень; никогда не пробовал; но в этом мире я кое‑что знаю» (29 (I), 142). Еще одно свидетельство — в письме А. Н. Майкову, написанном в тот период, когда образ старца еще был в проекте «Жития»: «Для других пусть гроша не стоит, но для меня сокровище ‹.‚.› Авось выведу величавую, положительную, святую фигуру. Это уж не Костанжогло–с и не немец в "Обломове". Почем мы знаем: может быть, именно Тихон и составляет наш русский положительный тип, который ищет наша литература ‹.‚.›. Правда, я ничего не создам, я только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя уже важным подвигом» (29 (1),118).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского"
Книги похожие на "Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Симонетта Сальвестрони - Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского"
Отзывы читателей о книге "Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского", комментарии и мнения людей о произведении.