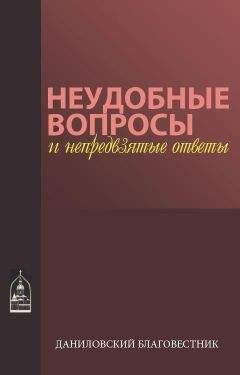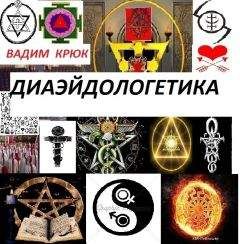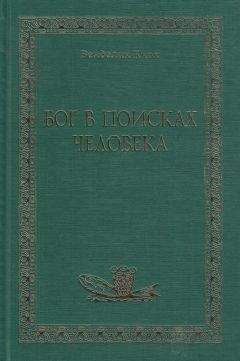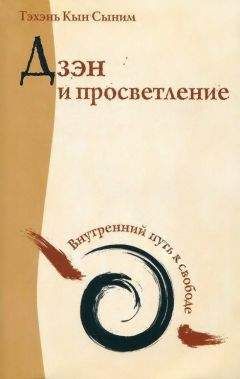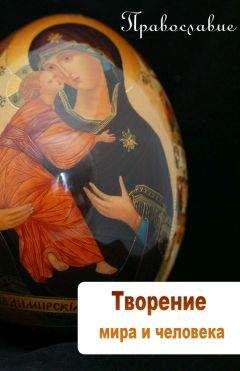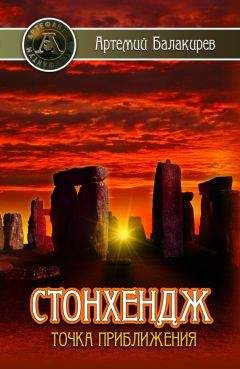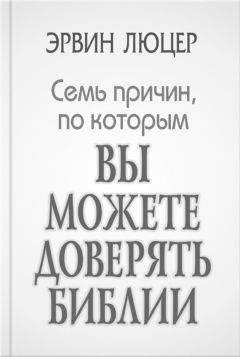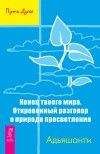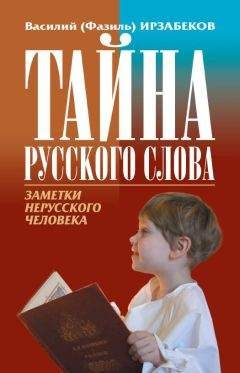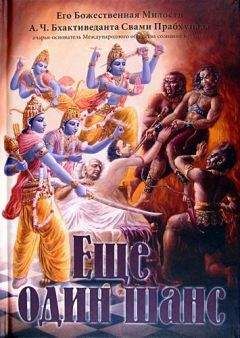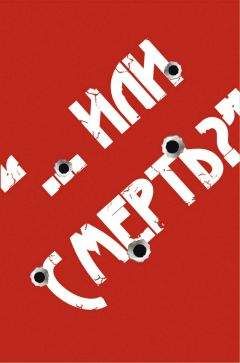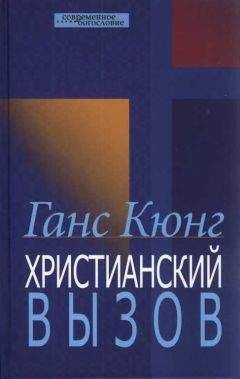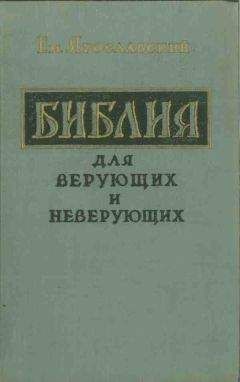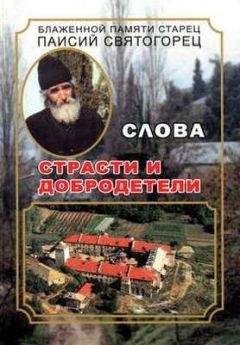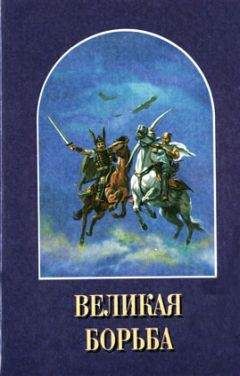Немесий Эмесский - О природе человека
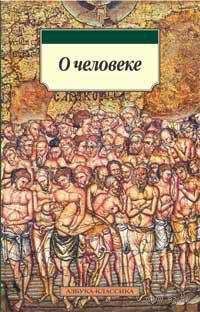
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "О природе человека"
Описание и краткое содержание "О природе человека" читать бесплатно онлайн.
ГЛАВА VI
О СПОСОБНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ[361]
Способность представления (φανταστικον) есть сила неразумной части души[362], действующая через посредство внешних органов чувств[363]. Представляемое же (φανταστόν) есть то, что подлежит деятельности воображения[364], как воспринимаемое чувством (подлежит) чувству. А воображение (φαντασία) есть состояние неразумной души, происходящее от чего–либо представляемого (φανταστού). Наконец, фантазм (φάντασμα — призрак) есть напрасное состояние, возникающее в неразумных частях души независимо от какой–либо представляемой вещи. Стоики тоже признают эти четыре вида: φαντασίαν, φανταστόν, φανταστικόν, φάντασμα[365]. При этом φαντασίαν[366] они определяют как состояние (движение) души, которое обнаруживает и себя самое, и вызвавший его предмет представления (τό φανταστόν)[367]. Так, например, когда мы видим что–нибудь белое, в душе возникает некоторое впечатление[368] от восприятия его: ведь, как в органах чувств происходит известное движение, когда они воспринимают, так и в душе, когда она мыслит (представляет), потому что она принимает в себя образ мыслимого (ею) предмета. Φανταστόν есть[369] то, что порождает φαντασίαν и подлежит чувственному восприятию, как например, белизна и все, что может двигать[370] душу. Φανταστικον есть пустое возбуждение — без того, что называется φανταστόν. Φάντασμα есть то, чем мы привлекаемся к φανταστικον, т. е. к пустому возбуждению[371], как бывает у безумных[372] и меланхоликов. Отличие этих (стоических) определений состоит в одной только перемене названий.
Органами рассматриваемой способности служат передние желудочки головного мозга и находящаяся в них психическая пневма[373], а затем — исходящие из них нервы, пропитанные «психической пневмой», и структура органов чувств. Органов чувств пять, чувство же одно — душевное[374], познающее посредством органов чувств происходящие в них состояния (движения). Тем органом, который наиболее материален[375] и телесен, т. е., осязанием, душа воспринимает вещественное (материальное) в природе; органом же световидным, каково зрение, — световидное; равным образом, органом воздухообразным[376]) воспринимает движения воздуха: ведь сущность звука составляет воздух, или, лучше, удар воздуха[377]; губковидным и водянистым (органом), т. е., вкусом, душа воспринимает соки[378]. Природой устроено так, что все чувственное познается тем, что ему сродно[379]. Итак, по смыслу сказанного, следовало бы, чтобы было четыре внешних чувства, так как существует четыре стихии. Но поскольку пар и род запахов занимают по своей природе середину между воздухом и водой [по сравнению с воздухом они грубее[380], а по сравнению с водой — нежнее[381]; это очевидно при насморке: страдающие насморком втягивают воздух посредством дыхания, но, втягивая воздух, паров и запаха[382] не воспринимают, так как по причине преграды состоящее из более плотных частиц не достигает чувства[383]], то вследствие этого природа устроила пятый орган чувств — обоняние, чтобы ничто из подлежащего знанию не осталось за пределами внешних чувств[384]. Ощущение не есть изменение, а определение (διάγνωσις, распознавание) изменения[385]: изменяются органы чувств, но распознается это изменение ощущением (внешним чувством)[386]. Часто смешивают ощущение (чувство) с самыми органами внешних чувств. Ощущение есть восприятие чувственных вещей. Но это, по–видимому, определение не самого ощущения, а его функций. Потому ощущение еще определяют как разумный дух, простирающийся от главного седалища души[387] к органам[388]. Еще ощущение определяют как силу души, воспринимающую чувственное, а самые органы — как орудия для восприятия чувственных предметов[389]. Платон определяет ощущение как сообщение (союз) души и тела с внешним[390]. Действительно, самая способность принадлежит душе, а орган — телу; оба же вместе — посредством воображения — воспринимают внешнее (бытие).
Из душевных сил (способностей) одни имеют характер подчиненный, служебный, другие — начальствуют и управляют. К начальствующим относятся — сила мыслящая (то διανοητικόν) и познающая (то επιστημονικόν); к подчиненным же относятся — способность ощущения, движение по стремлению или желанию (καθ' όρμην) и способность издавать звуки (то φωνητικόν)[391]. В самом деле, и движение, и звук очень скоро, почти без всякого промежутка времени, подчиняются воле рассудка: действительно, мы вместе и по одному поводу и желаем, и движемся — без всякого промежутка времени между хотением и движением — что можно видеть на примере движения пальцев. И из физических (способностей) некоторые находятся под властью рассудка[392], как например, так называемые страсти — τα πάθη[393].
ГЛАВА VII
О ЗРЕНИИ[394]
Зрением называется одинаково и орган, и сила ощущающая. Гиппарх говорит, что лучи, распространяющиеся из глаз и своими концами, как бы прикосновением рук, касающиеся внешних предметов, передают зрительному органу восприятие последних[395]. Геометры описывают некоторые конусы, происходящие от совпадения лучей, которые исходят из глаз; именно: правый глаз (думают они) посылает лучи налево, левый — направо[396], так что от их пересечения образуется конус; отсюда происходит, что зрение охватывает сразу[397] многие предметы, но видит лучше всего тот пункт, в котором пересеклись лучи. Поэтому, например, часто, глядя на пол, мы не видим лежащей на нем монеты, как бы мы ни напрягали свое зрение, до тех пор, пока лучи не пересекутся в том месте, где лежит монета: тогда, наконец, мы замечаем ее[398], как будто тогда только мы впервые обратили (на нее) свое внимание. По мнению эпикурейцев, в глаза входят образы тех предметов, которые предстают взору. Аристотель же полагает[399], что от видимых предметов зрению передается не телесный образ, а качество — посредством изменения окружающего нас воздуха. По мнению Платона, мы видим предметы благодаря слиянию лучей света, так как свет, исходящий из глаз, в некоторой степени оттекает (излучается) в сродный ему воздух; свет, исходящий от предметов, идет напротив, а свет, находящийся в воздухе, который лежит в середине и сам легко распространяется и изменяется, изливается вместе с огневидной энергией зрения[400]. Гален рассуждает относительно зрения в 7–й «Симфонии»[401] согласно с Платоном; в частности, он пишет приблизительно следующее: если бы в глаз входила какая–нибудь часть или сила, или образ, или качество видимых предметов, то мы не могли бы познавать величину видимого (нами), как, например, большой горы: ведь совершенно немыслимо, чтобы образ (είδωλον) столь огромного[402] предмета вошел в наши глаза; с другой стороны, и «дух зрения»[403] не может обладать такой исключительной силой, чтобы простираться вокруг всего, что подлежит зрению. Итак, остается признать, что окружающий воздух служит для нас таким же проводником[404] в то время, когда мы видим, каким в теле является зрительный нерв. Действительно, окружающий нас воздух, по–видимому, испытывает нечто подобное: ведь, как свет солнца, касаясь верхнего слоя воздуха, сообщает свою силу всему воздуху, так и свет, несомый зрительными нервами, имеет природу пневматическую[405], а проникая в воздух и первым толчком производя в нем изменение, достигает до maximum'a, сохраняя свою сущность пока не натолкнется на (какое–нибудь) твердое[406] тело. Поэтому воздух является для глаза таким же органом при различении видимого, каким нерв для головного мозга; так что — в каком отношении находится головной мозг к нерву, в таком же — глаз к воздуху, освещенному солнечным светом[407]. А что воздух от природы обладает свойством соуподобляться[408] находящимся в нем телам — это очевидно из того, что если при свете пронести через воздух что–нибудь красное[409] или черное, или блестящее серебро, то воздух изменяется от проносимого. Порфирий в книге «Об ощущении»[410] утверждает, что причиной зрения не может быть ни конус, ни образ (предмета), ни иное что–нибудь; но сама душа, вращаясь в сфере видимого бытия, познает в нем саму себя, так как душа содержит все существующее и все (существующее) есть не что иное, как душа, содержащая различные тела. И в самом деле, допуская существование одной только разумной всеобщей (мировой) души, Порфирий естественно утверждает, что она познает себя самое во всем существующем.
Глаз видит[411] по прямым линиям[412] и воспринимает, прежде всего, цвета, а вместе с ними познает и цветное тело: его величину, форму, место, где оно находится, расстояние, число (предметов), движение или покой, шероховатость или гладкость (тела), ровность или неровность, остроту или притупленность; состав тела: водянистое ли оно или земляное, т. е., влажное или сухое. Итак, специальный объект зрения есть цвет[413]. Действительно, мы воспринимаем цвета посредством одного зрения, а вместе с цветом тотчас воспринимаем и предмет, имеющий (известный) цвет, и место, в котором находится видимый предмет, и расстояние между видящим и видимым[414]. Какими чувствами воспринимается предмет, теми же тотчас вкупе[415] познается и место, что применимо к осязанию и вкусу. Но эти последние чувства[416] тогда только ощущают, когда приближаются к телу, за указанными ниже исключениями, зрение же — и на большом расстоянии. А так как зрение издали воспринимает свои специальные объекты, то отсюда необходимо следует, что оно одно видит и расстояние; величину же оно распознает одно только тогда, когда может охватить видимый предмет одним взглядом. В тех же случаях, когда предмет наблюдения настолько велик, что не может быть обнят одним взглядом, зрение нуждается в содействии памяти и мышления. Рассматривая такой предмет по частям, а не весь сразу, зрение необходимо переходит от одного (пункта) к другому, и что во время этого перехода постоянно попадает (в чувство) — воспринимается им; память же сохраняет воспринятое раньше, а мышление сочетает воедино и то, и другое и воспринятое чувством (в данный момент), и сохраненное памятью[417]. Итак, величину зрения воспринимает двояко: иногда — само, иногда — при помощи памяти и мышления. Число видимых предметов, если оно больше трех или четырех, так что одним взглядом не объемлется, а равно движение и многоугольные фигуры зрение никогда не воспринимает[418] само по себе, но всегда с помощью памяти и мышления. Ведь оно не может пять, шесть, семь и больше (предметов) соединить без помощи памяти; невозможно это и по отношению к шестиугольникам, восьмиугольникам и многоугольным фигурам. Равным образом и движение, совершающееся постепенно[419], одно имеет первым, другое вторым — а где есть первое, второе и третье, там все это сохраняется одной памятью. Верхнее и нижнее, ровное и неровное, равно как шероховатое и гладкое, острое и тупое, воспринимаются осязанием и зрением, потому что только одни эти чувства распознают место. Однако, они нуждаются и в мышлении, поскольку функцией одного внешнего чувства является только то, что попадает в него сразу, в один прием, а то, что [достигает чувства] впоследствии, уже есть дело не одного чувства, а совместно памяти и мышления, как показано выше. Прозрачные тела зрение от природы способно проникать насквозь[420], конечно, прежде и . более всего — воздух, который оно проникает всецело, затем — воду, спокойную (неподвижную) и чистую, благодаря чему мы видим плавающих рыб; через стекло и иное того же рода, если, конечно, оно освещено, мы видим меньше; и это есть отличительная особенность зрения. Пусть никто не заблуждается, что зрению принадлежит и восприятие теплоты — на том основании, что, глядя на огонь, мы тотчас же сознаем, что он и горяч: ведь, если обратишь внимание на самое первое зрительное ощущение, то найдешь, что тогда, когда зрение впервые ощущало огонь, оно воспринимало только его цвета и форму; с присоединением же осязательного ощущения мы узнали, что он (еще) и горяч; это, заимствованное от осязания, восприятие сохранила память. Так и теперь, когда мы смотрим на огонь, ничего другого не видим, кроме его цвета и очертания[421]; но мышление, посредством памяти, присоединяет к видимому еще и теплоту[422]. То же самое соображение приложимо и к яблоку: ведь не одним же только цветом и формой характеризуется яблоко, но еще — запахом и вкусовым качеством, и не восприятием этих последних (признаков) зрение узнает яблоко, но душа сохраняет воспоминание из области обоняния и вкуса и при первом взгляде (на яблоко) мысленно присоединяет это к форме и цвету. Таким образом, когда восковое яблоко мы принимаем за настоящее, то не зрение здесь обманывается, а мышление: ведь зрение (в данном случае) не погрешило в своих собственных функциях[423], так как оно распознало цвет и форму.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "О природе человека"
Книги похожие на "О природе человека" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Немесий Эмесский - О природе человека"
Отзывы читателей о книге "О природе человека", комментарии и мнения людей о произведении.