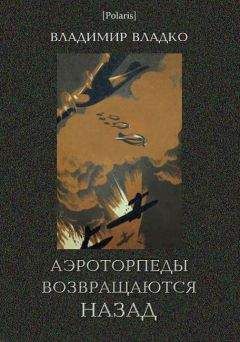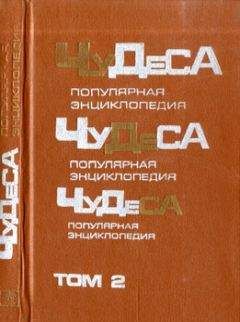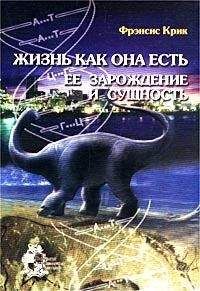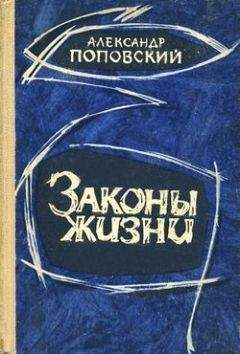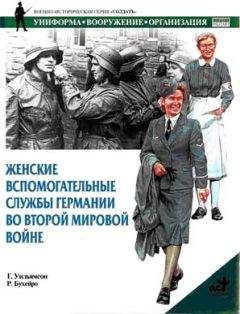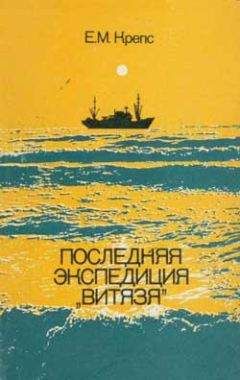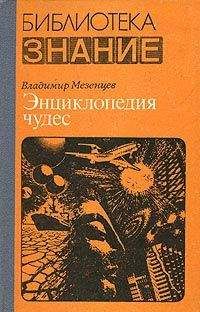Владимир Солоухин - Волшебная палочка

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Волшебная палочка"
Описание и краткое содержание "Волшебная палочка" читать бесплатно онлайн.
Автор полюбившихся широкому читателю книг «Владимирские проселки», «Капля росы», «Мать-мачеха», поэтических сборников выступает со своим новым прозаическим томом. В художественной форме в нем анализируются события общественной и литературной жизни, писатель увлекается и переживает, радуется и негодует, смело вступает в полемику. Вместе с тем книга лирична и задушевна, что особенно характерно для таких рассказов, как «Волшебная палочка Аксакова», «Искатель живой воды», «Очарованный странник» и др.
Должно ли это спасение быть полным или частичным? Решительным или осторожным? Постепенным или немедленным? Не обидим ли мы кого-нибудь, спасая ценности? Не ущемим ли чьи-то интересы?
Речь идет о так называемом «музейном взрыве», когда через маленький дом Чехова в Ялте проходит сто двадцать пять тысяч человек, а через Эрмитаж (пусть и большой) — три миллиона. В результате расшатываются здания и стираются полы (подлинный пол, по которому ходил Толстой, может быть утрачен только один раз), от переизбытка людей (пыль и дыхание) с живописью происходят нежелательные, необратимые процессы.
Казалось бы, вопрос настолько ясен, что не может быть двух мнений. И все же мнения есть, и не два — гораздо больше.
«Думаю, что не следует предпринимать никаких мер, чтобы уменьшить поток людей, жаждущих увидеть богатство Эрмитажа. Даже если многие из них в искусстве ничего не понимают, даже если это дань моде» (Н. Расков, Ленинград).
«Для решения проблем сохранения музеев на века требуются не паллиативы, а серьезные решительные меры» (Ф. Буданов и Г. Меерович, Ленинград).
«Планы, спускаемые сверху соответствующими органами, как правило, строятся не на реальных возможностях музея, а на желании перекрыть предыдущий итог» (К. Кордобовский, Ленинград).
«Меня поразила, прежде всего, будничность обстановки в Эрмитаже. Люди спешат сюда, как на работу. Они не смотрят картины, они лишь констатируют факт своего мгновенного пребывания у того или иного шедевра. В залах стоял тяжелый гул от топота ног. Паркет под ногами был истерт и грязен. Воздух в залах пронизан человеческими испарениями, как в кинозале к концу двухсерийного фильма. Белый мрамор знаменитой лестницы был мрачен от толстого слоя грязи» (Ал. Островский, Минск).
«Туристские поезда в Эрмитаж организованным потоком не водить» (И. Семенов, Ленинград).
«Никто не устраивает дискуссий по поводу “балетного взрыва”, хотя балет Большого театра легче увидеть французу, чем туристу из Сибири. Не сетуют и на “спортивный кризис”, когда не могут попасть на интересный матч» (А. Дмитриев, Новосибирск).
«Ни в коем случае не ограничивать и не мешать этой самой человечной из всех человеческих страстей — тяги к “разумному, доброму, вечному”. Напротив…» (В. Венедиктов, Москва).
«Мимо уникальных картин, которые заслуживают самого глубокого внимания, изучения, — люди бегут! Да, да — бегут!» (В. Матвеев, Москва).
«В толпе, снующей по Эрмитажу, значительная часть — посетители первого раза. Что дает им такой пробег, даже возглавляемый экскурсоводом? Ничего не дает. Знакомство с мировым искусством требует хотя бы немногих, но предварительных знаний. Ведь не только служенье муз, но и общение с музами не терпит суеты» (В. Богуславская, Ленинград).
«Меня обидело и огорчило, что нужно ограничить количество экскурсантов. Да ведь это одно из самых больших наших завоеваний — это именно то, что с каждым годом все растет число посетителей Эрмитажа» (В. Камкина, Ленинград).
Ища выход из почти что безвыходного положения, авторы писем предлагают множество мер, полумер и четверть мер: мощное проветривание помещений, раздробление Эрмитажа на несколько самостоятельных музеев, увеличение количества музеев в таких городах, как Москва и Ленинград, увеличение платы за вход, введение тряпичных тапочек для посетителей Эрмитажа…
Чтение писем неизбежно наводит на собственные воспоминания, связанные с музеями, и на собственные соображения. Вспоминаю, в первую очередь, блестящую и полную тревоги статью Татьяны Глушковой о Пушкинском заповеднике, прочитанную мной несколько лет назад. Триста тысяч экскурсантов за четыре летних месяца. Восемьдесят экскурсий в одно воскресенье, проходящих через небольшой деревянный дом. Объявление: «Купаться перед домом поэта запрещено!» Афористичные выражения Т. Глушковой: «Пушкинский заповедник работает на износ», «Случайный посетитель — это главный враг Пушкинского заповедника», «Тропа (“к нему не зарастет народная тропа”. — В. С.) превращается в проезжую дорогу». И вывод горький и неожиданный: «Есть три (равно успешных) средства убить живую память: умолчание, небрежение и поминание всуе».
Это плюс к физической, механической порче бесценных памятных мест, которая, как мы условились, непоправима на все последующие века.
Но как же быть с правом людей, желающих видеть, а по возможности и пощупать народное, то есть свое собственное достояние? И тогда зачем же оно, если его не всегда можно увидеть?
Ну, мало ли что является достоянием и что увидеть и потрогать нельзя! В музее в Грузии, в Тбилиси, лежат на виду древнейшие книги, а на табличке написано: «Муляж». Мы не выставляем на ежедневное обозрение черновики Пушкина, рукописи Достоевского, письма Блока. Они смирно лежат в шкафах, хранилищах, куда никого не пускают, являясь в то же время бесспорным достоянием народа. Почему не выставляем? Потому, что испортятся, погибнут. Живопись тоже, говорят портится, правда, не так быстро, как рукописи. Но в рассуждении многих веков это не имеет значения. Ведь алмазы в Оружейной палате предназначены, чтобы их носили, и они тоже есть народное достояние, однако никому не приходит в голову требовать примерить их на свое платье. Они лежат под стеклянным колпаком.
Зимний дворец, Эрмитаж — это такие алмазы, какие не снились Оружейной палате. Нужно ли пускать их на распыл? Или спрятать под стеклянный колпак?
Или, может быть, найти разумную меру ограничить? Ограничен же доступ в Оружейную палату, Георгиевский зал, Грановитую палату, в рабочий кабинет В. И. Ленина. Пока никто еще не пострадал от такого ограничения, а ценности выигрывают, оставаясь в большей сохранности, нежели проходные дворы Ясной Поляны, дома Чехова, Эрмитажа, Третьяковской галереи. Значит, ограничить не только можно, но и нужно. Думаю, что Лев Николаевич не каждого паломника водил к себе в спальню или кабинет. Но вот писатель умирает, двери его дома распахиваются, ежедневные толпы устремляются в святая святых. Был характерный случай в доме Чехова в Ялте. Экскурсовод привычным широким жестом пригласил чешских туристов в спальню Антона Павловича. Туристы замялись. Один из них пояснил: «Нет, мы не пойдем. Неприлично заходить в спальню посторонним людям».
Рядом с подлинным домом Чехова построено просторное, крепкое современное здание, в котором размещена превосходная экспозиция, посвященная жизни и творчеству писателя. Вот сюда-то и заводить экскурсии. Здесь-то и рассказывать, и обогащать их знаниями. Точно так же наряду с подлинными домами в Ясной Поляне и в Хамовниках есть Музей Льва Толстого в Москве на Кропоткинской улице. Прекрасная экспозиция. Сюда и надо водить экскурсии. Полезно, обогащает, расширяет кругозор, приобщает к «разумному, доброму, вечному». Может быть, тут, действительно, чем больше народу, тем лучше. А в подлинный дом, в рабочий кабинет? Извините…
— Тогда зачем же этот дом в Ялте, в Ясной Поляне?
Затем, что он есть бесценное народное достояние. Его можно фотографировать, снимать в кино, живописать, издавать альбомы. Есть люди, изучающие Чехова (Толстого), пишущие о нем статьи, книги, диссертации. Есть режиссеры, снимающие фильмы по рассказам Чехова, есть актеры, играющие роли в чеховских спектаклях, есть иностранные специалисты по Чехову (Толстому), есть профессора, читающие лекции о нем во всех университетах мира. Вот если приедет такой профессор в Ялту (в Ясную Поляну) из Сорбонны или из МГУ, тогда главный хранитель музея подведет его к двери кабинета и вставит ключ в замочную скважину:
— Пожалуйте в святая святых…
И через сто, через двести лет будут изучать великих писателей, читать лекции о них, и тогда понадобятся их дома, которые есть одни, первые и последние, на все времена. Так неужели же заставлять их работать на износ, а не приравнять к Алмазному неприкосновенному фонду?
Приходит в Ялту огромный туристский пароход или туристский поезд. Или на автобусах на субботу и на воскресенье выезжают сотрудники предприятий. Если бы распустить туристов по городу (Ялте, Ленинграду, Москве), то из целого поезда, может быть, двум-трем пришло бы в голову посетить Чехова, остальные нашли бы себе занятие. Но когда ведут в организационном порядке, то все пятьсот человек дружно протопают по ветхим лестницам, по слабым потолочным перекрытиям. То же самое можно сказать и об экскурсиях в большие музеи: Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую галерею.
— Был я в Ленинграде с туристским поездом. Водили нас в Эрмитаж.
— Скажи, Володя (подлинный случай), что тебя больше всего поразило в Эрмитаже?
Володя задумался, ведя машину по тянь-шаньской дороге:
— Картины, картины — и все коричневые.
Что ж, так и оставить Володю в неведении относительно живописи, ее красоты, ее глубины, ее величия? Или все-таки просвещать? Просвещать. Непременно просвещать. Только вот с какого конца начинать просвещение? Сразу поставить его перед полотном, в котором он, по временной слепоте своей, не увидит ничего, кроме коричневого пятна, или подготовить его к этому мигу, пользуясь тем, что в нашем распоряжении есть репродукции, альбомы, фильмы, диапозитивы, копии?
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Волшебная палочка"
Книги похожие на "Волшебная палочка" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Солоухин - Волшебная палочка"
Отзывы читателей о книге "Волшебная палочка", комментарии и мнения людей о произведении.