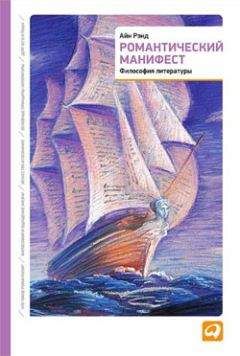Коллектив авторов - Социология искусства. Хрестоматия

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Социология искусства. Хрестоматия"
Описание и краткое содержание "Социология искусства. Хрестоматия" читать бесплатно онлайн.
Хрестоматия является приложением к учебному пособию «Эстетика и теория искусства ХХ века». Структура хрестоматии состоит из трех разделов. Первый составлен из текстов, которые являются репрезентативными для традиционного в эстетической и теоретической мысли направления – философии искусства. Второй раздел представляет теоретические концепции искусства, возникшие в границах смежных с эстетикой и искусствознанием дисциплин. Для третьего раздела отобраны работы по теории искусства, позволяющие представить, как она развивалась не только в границах философии и эксплицитной эстетики, но и в границах искусствознания.
Хрестоматия, как и учебное пособие под тем же названием, предназначена для студентов различных специальностей гуманитарного профиля.
Поэт, как и каждый художник, всегда показывает нам только единичное, индивидуальное, но то, что он познал и хочет, чтобы мы познали в этом индивидуальном все-таки (платоновскую) идею, весь род, ибо в его образах содержится как бы отпечаток человеческих характеров и ситуаций. Поэт или драматург извлекает из жизни и точно описывает совершенно единичное в его индивидуальности, но раскрывает в нем все человеческое существование, поскольку он лишь по видимости отражает в своих произведениях единичное, в сущности же – то, что было повсюду и во все времена. Этим объясняется, что сентенции поэтов и особенно драматургов, даже не будучи измерениями общего характера, часто применяются в действительной жизни. Поэзия относится к философии, как опыт к эмпирической науке. Опыт знакомит нас с явлением единичным и на отдельных примерах, наука же посредством общих понятий объемлет всю их целокупность. Точно так же поэзия хочет познакомить нас с (платоновскими) идеями с помощью единичного и на отдельных примерах; философия же учит нас познавать выраженную в них внутреннюю сущность вещей в целом и общем. Уже из этого очевидно, что поэзии ближе характер молодости, философии – старости. И в самом деле, поэтический дар расцветает, собственно говоря, только в молодости; и восприимчивость к поэзии в молодости часто принимает страстный характер: юноша радуется стихам как таковым и часто довольствуется произведениями достаточно низкого качества. С годами эта склонность постепенно ослабевает и в старости предпочитают прозу. Поэтическая настроенность в молодости легко может исказить чувство действительности. Ибо поэзия отличается от действительности тем, что рисует жизнь проходящей интересно и вместе с тем без страданий; в действительности же жизнь, пока она свободна от страданий, неинтересна, и, как только становится интересной, не может быть лишена страданий. Юноша, посвященный в поэзию до того, как он познал действительность, требует от действительности того, что может дать только поэзия: в этом главный источник неудовлетворенности, которая гнетет самых выдающихся юношей.
Метр и рифма – оковы, но и покров, который набрасывает на себя поэт и который позволяет ему говорить то, что при других обстоятельствах было бы невозможно: именно это и доставляет нам радость. За все, что он говорит, он ответствен лишь наполовину, вторая половина падает на метр и рифму. Сущность метра или размера в качестве ритма только во времени, которое есть чистое созерцание a priori, следовательно, относится, говоря словами Канта, к чистой чувственности; напротив, рифма – результат ощущения в органе слуха, следовательно, – эмпирической чувственности. Поэтому ритм гораздо более благородное и достойное вспомогательное средство, чем рифма, ею и пренебрегали в древности, и она появилась в несовершенных, возникших в варварское время языках, исказивших языки древности.
При строгом образе мыслей могло бы показаться едва ли не изменой разуму, если мысль или правильное и чистое выражение подвергаются хотя бы самому незначительному насилию в ребяческом намерении услышать через несколько слогов то же звучание или придать этим слогам характер своего рода прыжков. Но без подобного насилия создаются лишь очень немногие стихи; именно поэтому на чужом языке стихи гораздо труднее понимать, чем прозу. Если бы мы могли заглянуть в тайную мастерскую поэтов, то обнаружили бы, что в десять раз чаще ищут мысль к рифме, чем рифму к мысли, и даже в этом случае дело редко обходится без уступок со стороны мысли. Однако версификация противостоит всем этим соображениям и на ее стороне все времена и народы; столь велико впечатление, производимое на душу метром и рифмой, и столь действенно присущее им lenocinium. Я объясняю это тем, что удачно рифмованные стихи вызывают своим неописуемым эмфатическим действием ощущение, будто выраженная в них мысль была уже предуготовлена, даже предобразована в языке и поэту оставалось только найти ее там. Даже тривиальные мысли получают благодаря ритму и рифме оттенок значительности и привлекают в этом украшении, как девушки с заурядными лицами привлекают своим нарядом взоры. Более того, даже нелепые и неверные мысли обретают благодаря версификации оттенок истины. С другой стороны, знаменитые места из произведений известных поэтов бледнеют и становятся незначительными, когда их передают в прозе. Если только истинное прекрасно и если наилучшее украшение истины – неприкрытость, то мысль, величественно и прекрасно высказанная в прозе, должна обладать большей истинной ценностью, чем мысль, которая производит такое впечатление в стихах. Что столь ничтожные кажущиеся едва ли не ребяческими средства, как метр и рифма, оказывают такое сильное действие, поразительно и достойно исследования; я объясняю это следующим образом. Непосредственно предложенное слуху, следовательно, простое звучание слов само по себе получает благодаря ритму и рифме известное совершенство и значение, превращаясь в своего рода музыку; поэтому оно как бы существует само по себе, а не как простое средство, просто как знак обозначенного, т. е. смысла слов. Кажется, что его назначение только восхищать наш слух своей звучностью, что этим все достигнуто и все претензии удовлетворены. То, что в нем одновременно еще содержится смысл, что оно выражает мысль, воспринимается как неожиданное добавление, подобно словам в музыке, как неожиданный дар, который нас приятно удивляет и поэтому, поскольку мы не предъявляли требований такого рода, легко удовлетворяет; если же эта мысль еще и такова, что сама по себе значительна, то мы приходим в восторг.
Признак, по которому вернее всего можно определить подлинного поэта, как высокого, так и низкого уровня, – это непринужденность рифм в его стихах: они возникают как бы по божественному велению сами, его мысли приходят к нему уже рифмованными. Напротив, тот, кто, в сущности, является прозаиком, ищет рифму к мысли, а кто просто бездарность, – тот ищет мысль к рифме. Часто, сопоставляя два рифмованных стихотворения, можно определить, какое из них исходило из мысли и какое из рифмы. Искусство заключается в том, чтобы это было скрыто.
Согласно моему чувству, рифма может быть по самой своей природе только двойной: ее действие ограничивается однократным повторением одного и того же звука и частым повторением не усиливается. Как только конечный слог услышал так же звучащий слог, его действие исчерпано; третье повторение звука действует только как вторичная рифма, которая случайно совпадает с тем же звуком, не усиливая при этом действия; она примыкает к существующей рифме, не соединяясь с ней для более сильного впечатления. Ибо первый звук не переходит через второй к третьему и представляет собой поэтому эстетический плеоназм, двойное, ничем не оправданное дерзание. Меньше всего такие нагромождения рифм заслуживают тяжелых жертв, которые приносятся им в стансах, терцинах и сонетах и служат причиной мук, испытываемых при их чтении, – ведь наслаждаться поэзией невозможно, если при этом приходится ломать себе голову. То, что высокий поэтический дар может иногда преодолевать и эти формы, двигаясь в них легко и грациозно, не оправдывает их применения в поэзии, ибо сами по себе они столь же недейственны, сколь и трудны. Даже когда хорошие поэты обращаются к этим рифмам, в их стихах подчас заметна борьба между рифмой и мыслью, в которой одерживает верх то одна, то другая, иными словами, либо мысль искажается из-за рифмы, либо рифма довольствуется очень слабым a peu pres. Ввиду этого в том, что Шекспир придал в своих сонетах каждой строфе другие рифмы, я вижу доказательство не отсутствия изощренности, а хорошего вкуса. Во всяком случае их звуковое воздействие нисколько от этого не пострадало, а мысль выражается яснее, чем это было бы возможно, если бы их поместили в традиционные испанские сапоги. Если в поэзии какого-либо языка много слов, которые не употребляются в прозе, а с другой стороны, некоторые слова, употребляемые в прозе, не допускаются в поэзии, это приносит вред поэзии данного языка. Первое характерно преимущественно для латинского и итальянского языков, второе – для французского. To и другое менее свойственно английскому и меньше всего немецкому языку. Дело в том, что принадлежащие только поэзии слова остаются чуждыми нашему сердцу, они не взывают непосредственно к нам и поэтому оставляют нас холодными. Это – условный поэтический язык, он отражает как бы нарисованные, а не действительные чувства и исключает глубину восприятия.
Различие между классической и романтической поэзией, о котором так много говорят в наши дни, заключается, как мне кажется, в том, что классической поэзии не ведомы иные мотивы, кроме чисто человеческих, действительных и естественных, романтическая же поэзия придает действительное значение также мотивам искусственным, условным и воображаемым: к ним относятся мотивы, почерпнутые из христианского мифа, связанные с эксцентричным и фантастическим принципом рыцарской чести, с безвкусным и смешным христианско-германским почитанием женщин, наконец, со вздорной, лунатической неземной влюбленностью. До какого уродливого искажения человеческих отношений и человеческой природы доводят эти мотивы, очевидно на примере даже лучших поэтов романтического направления, например Кальдерона. Как выгодно отличается от этого поэзия древности, которая всегда остается верной природе! Совершенно очевидно, что в классической поэзии заключена безусловная истина и подлинность, в романтической – только условная; аналогично этому отношение между греческим и готическим зодчеством.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Социология искусства. Хрестоматия"
Книги похожие на "Социология искусства. Хрестоматия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Коллектив авторов - Социология искусства. Хрестоматия"
Отзывы читателей о книге "Социология искусства. Хрестоматия", комментарии и мнения людей о произведении.