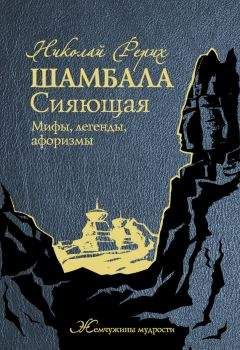Михаил Бахтин - Том 1. Философская эстетика 1920-х годов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 1. Философская эстетика 1920-х годов"
Описание и краткое содержание "Том 1. Философская эстетика 1920-х годов" читать бесплатно онлайн.
Первый том Собрания сочинений М. М. Бахтина — это начало пути мыслителя. В томе публикуются его ранние философские работы, не печатавшиеся при жизни автора. Первые посмертные публикации этих работ (в 1975, 1979 и 1986 гг.) были текстологически несовершенными; для настоящего издания их тексты заново подготовлены по рукописям, уточнены и восполнены новыми фрагментами, не поддававшимися прочтению. Три капитальных ранних труда М. М. Бахтина предстают в восстановленных, по существу, — новых текстах. Как и в уже вышедших ранее томах (5, 2 и 6-м) Собрания сочинений, тексты работ обстоятельно комментируются. Тексты сопровождаются факсимильным воспроизведением листов рукописей М. М. Бахтина.
Акцентируя имя Вяч. Иванова, мы отвлекаемся от несомненно имевшихся у М.М.Б. аллюзий к другим русским символистам, прежде всего к А. Белому, который также много писал об этом круге проблем, в том числе и о разного рода распадах единства самосознания под влиянием извне привходящих оценок другого (это было, как известно, одной из ведущих тем Белого). Разыскания Белого вне сомнений находились в зоне бахтинского интереса; напомним, напр., что именно Белого, а не Достоевского М.М.Б. назвал в 1925 г. создателем «нового русского романа» («Записи лекций по истории русской литературы», Т. 2. С. 337–338), хотя в этой оценке были отнюдь не только позитивные тона: «Избежать его влияния нельзя… Белый на всех влияет, над всеми как рок висит, и уйти от этого рока никто не может» (Т. 2. С. 339). Эта двусмысленно-высокая оценка могла быть связана с тем также двунаправленным — позитивно-негативным — упоминанием антропософии в ФП (как достигающей участности в жизни, но — неправомерными путями), которое могло ассоциироваться и с Белым (см. прим. 25*). И все же мы «отвлекаемся» в данном случае от сопоставлений с другими символистами — потому, что Вяч. Иванов был для М.М.Б., по его собственной оценке, главной в этом смысле фигурой («Как мыслитель и как личность Вяч. Иванов имел колоссальное значение. Теория символизма сложилась так или иначе под его влиянием. Все его современники — только поэты, он же был и учителем. Если бы его не было как мыслителя, то, вероятно, русский символизм пошел бы по другому пути» — Т. 2. С. 318). «Отвлекаемся» мы и от содержательных сопоставлений с философами других направлений (напр., с высоко оцененным в ФП Н. О. Лосским) — потому, что при первостепенной в данном случае значимости сопоставления с ивановским кругом идей их привлечение повлекло бы за собой необходимость погружения в имевшиеся как между разными направлениями, так и внутри символизма сложные теоретические и религиозные споры, что не входит в жанровую компетенцию комментария и заслонило бы частоколом внешних разновекторных параллелей внутреннее содержание бахтинской философии. Вместе с тем подробное рассмотрение темы «Бахтин в контексте споров русских символистов и русской философии начала XX века в целом» наверняка привнесло бы много уточняющих и утончающих деталей (как, с другой стороны, и тема: «Бахтин в контексте дискуссий европейской философии начала XX в.»).
696
Правое безумие в устах М.М.Б. — это скорее всего аллюзия не к Платону, а к Вяч. Иванову; это тем более интересно, что у Вяч. Иванова правое безумие — это самоотдание себя Дионису, а у М.М.Б. — Аполлону.
697
Фейербах Л. Сочинения. Т. 1. М., Наука, 1995. С. 427–476 и особенно 448.
698
Развернутую интерпретацию ФП в этом направлении см. в: Бонец-кая Н. К. Бахтин глазами метафизика. // ДКХ, 1998, № 1.
699
Наличие среди целей ФП нового толкования долженствования отмечалось в литературе; см., напр., об обосновании «нового типа императивности, исходя из парадоксального основания человеческой единичности» в: Шевченко А. К. Культура. История. Личность. Введение в философию поступка (Киев, 1991. С. 5); см. также о тонком толковании в структуре опыта ответственности момента заданности в: Исаков А. Н. Философия поступка Бахтина и трансцендентальная феноменологическая традиция. (М. М. Бахтин и философская культура XX века. Вып. 1.4. 1. СПб., 1991. С. 98).
700
Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб., 1999. С. 28.
701
Подробную аргументацию к толкованию ФП в этом направлении см. в: Давыдов Ю. «Трагедия культуры» и ответственность индивида (Г. Зиммель и М. Бахтин). // ВЛ, Июль-Август 1997; Poole В. From phenomenology to dialogue: Max Scheler's phenomenological tradition and Mikhail Bakhtin's development from «Toward a philosophy of act» to his study of Dostoevsky. // Bakhtin and Cultural Theory. Manchester, 2001.
702
Снисходительность ивановского символизма по отношению к «наивному реализму» проясняет бахтинскую фразу из лекций по истории русской литературы: «Сначала пути марксистов и символистов были общими, и, странный оптический обман, их тогда не различали» (Т. 2. С. 294). Действительно, Вяч. Иванов изначально развивает свое понимание наивного реализма в его позитивно толкуемом противопоставлении наивному идеализму гносеологических направлений новоевропейской философии, но в дальнейшем от наивного реализма и альтруизма им проводится преображающая существо вопроса нить к особому «реализму» Достоевского, преодолевающему и «наивный реализм», и безысходный идеализм «современного сознания» (см. § 8).
703
Разные аспекты этого круга проблем постоянно затрагиваются при интерпретации идей М.М.Б., но чаще — применительно не к ФП, а к АГ и ПТД (см., напр., о проблеме хора в связи с АГ и ПТД в примечаниях С. Г. Бочарова к ПТД — Т. 2. С. 454–455), что ведет к тому, что характерологическое целое этого концептуального контекста лишь в редких случаях (напр., в: Фридман И. И. По направлению к рампе: бахтинский 'хронотоп' как общеэстетическая категория. В печати) рассматривается как имеющее прямое отношение к «генетическому коду» бахтинской философии в целом (см. в одном из подготовительных бахтинских материалов к статьям о романе выразительную в этом смысле запись, направленную на прямую ассоциативную связь романной концепции М.М.Б. с ницшеанским «Рождением трагедии…»: «Рождение романа из духа смеха» — конечно, не в биологическом или социальном, а в мистериальном понимании этого «духа»). Именно на этом концептуальном фоне могут быть эксплицированы смысловые потенции и многих других бахтинских идей, не уловимые в теоретически-философском, этическом, эстетическом, формально-лингвистическом или литературоведческом контекстах. Напр., особо выделяемая С. Г. Бочаровым (Там же. С. 449) и рассматриваемая в ракурсе «эллинско-христианского синтеза» бахтинская идея о неискупленном герое Достоевского может быть сопоставлена с «искупительной» жертвой в мистерии и/или в трагедии — в том, в частности, виде, в каком эти темы разрабатывались у Вяч. Иванова (см., напр., о «тайном зове искупленья, т. е. погашения извне привходящим вмешательством неоплатного долга…» — II, 157; или концовку «Орфея растерзанного»: Вскрикнут струны искупленья, смолкнут жалобой живой… /Вновь разрыв, и исступленье, и растерзан Вакх! Эвой! — 1, 804).
704
Познай себя, кто говорит: «Я — Сущий»; / Познай себя и нарекись: «Дея-нье». /Нет человека; бытие — в покое;/И кто сказал: «Я — есмь», — покой отринул. /Познай себя: свершается свершитель, /И делается делатель; ты — будешь. /«Жрец» нарекись, и знаменуйся: «Жертва». /Се, действо — жертва. Все горит. Безмолвствуй. (II, 157).
705
Толкование бахтинской позиции в этом направлении — как «эстетики жизни» — см., в частности, в: Исупов К. Г. О философской антропологии М. М. Бахтина. // Бахтинский сборник. I. М., 1990.
706
Согласно АГ, формально-эстетическая реакция автора на героя эстетизует его, «вырывает из действительности (познавательно-этической) и художественно обрамляет его…»', общий характер эстетической установки — «отделять эстетическое событие от жизни…»; «Изъятие героя из открытого… события бытия, освобождение от реальности…» и т. д.
707
Разработка в бахтинских текстах особой «философской оптики» отмечалась в: Holquist М. Dialogizm: Bakhtin and World. London N.Y., 1990. P. 20. В написанной до публикации ФП и основываемой авторами на ИО и АГ книге: Clark К., Holquist М. Mikhail Bakhtin. (Harvard University Press, 1984. P. 70, 71) — эта разрабатываемая М.М.Б. «оптика» интерпретируется в смысле, близком к принципу себя-исключения ФИ как концептуально направленная на поиск нестандартного выхода из стандартного тупика солипсизма («В бахтинской феноменологии восприятия важны прежде всего возможности видения, а не те ограничения, которые налагает на них мое местонахождение… Бахтин подчеркивает скорее преимущества, чем недостатки индивидуально локализованного видения, хотя они взаимосвязаны и неотделимы одно от другого. Он делает это для того, чтобы термин «избыток видения» не мог трактоваться в духе солипсизма: избыток — это в конечном итоге относительная категория, не имеющая смысла без отсылки к другому»). В некоторой мере близки по общей направленности к принципу себя-исключения и толкования бахтинской позиции в модусе концептов «внежизненного бытия» или «внежизненно активной авторской позиции» в: Федоров В. В. К понятию эстетического бытия. // М. М. Бахтин и философская культура XX века. Выпуск 1. Часть 1. СПб., 1991; Бройтман С. Н. Наследие М. М. Бахтина и историческая поэтика. // ДКХ, 1998, № 4. С. 14.
708
О традиции поэтики содержательных тавтологий и антиномий см.: Аверинцев С. С. Славянское слово и эллинизм. // ВЛ, 1976, № 11.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 1. Философская эстетика 1920-х годов"
Книги похожие на "Том 1. Философская эстетика 1920-х годов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Бахтин - Том 1. Философская эстетика 1920-х годов"
Отзывы читателей о книге "Том 1. Философская эстетика 1920-х годов", комментарии и мнения людей о произведении.