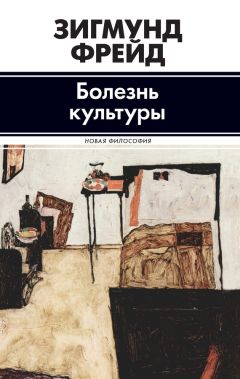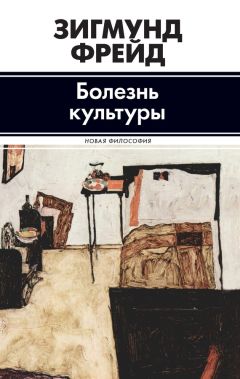Георгий Федотов - Судьба и грехи России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Судьба и грехи России"
Описание и краткое содержание "Судьба и грехи России" читать бесплатно онлайн.
Федотов Георгий Петрович(1886 - 1951 гг.) — выдающийся русский мыслитель и историк. Его научные интересы были сосредоточенны на средневековом и древнерусском христианстве. Был близок к Бердяеву и св. Марии (Скобцовой). Защитник свободы и честности в Церкви, мысли, обществе.
Федотов Г.П., Судьба и грехи России /избранные статьи по философии русской истории и культуры
==217
жизнь, как она выражается в голоде, похоти и убийстве. Война, революция, борьба за жизнь — дают неисчерпаемый запас сюжетов. Быт деревни на первом плане. Мужик изображается пером не барина, а своего собственного сына — с беспощадным реализмом. В этом сильном, хитром, аморальном дикаре (Всеволод Иванов) трудно узнать кроткого мученика народнической литературы. Но Толстой, Чехов и Бунин уже помогают уяснить его генезис. Не все в этой новой революционной «иконе» клевета на народ. Многое надо отнести на счет оголения и озверения революционных лет. Остальное — на счет требований нового стиля. Искусство, отталкиваясь от барской рафинированности вчерашнего дня, неизбежно влечется к брутализму. На этом опасном пути, указанном Толстым, еще возможны потрясающие открытия звериной правды о человеке. Возможно и новое мощное чувство природы, не отделенной от темной глубины в человеке.
Большие эффекты достигаются методами изобразительного импрессионизма. Живопись ярких пятен, мазков, выступающих из мрака, без соединяющего линейного контура повествования, впечатляет и раздражает одновременно. Язык освободился от оков литературной речи и упивается народным говором. Тысячи новых слов, иногда очень ярких, иногда просто непонятных, затопили литературу. Русский литературный язык вступил в новую (после Карамзина) полосу влияния. Однако эти черноземные, даже навозные языковые пласты (в России, по-видимому, уже нет непечатных слов) идут на сложную барочную лепку. Влияние символизма не прошло даром для этих примитивистов. Народный «сказ» ведет в школу Ремизова, а потребность в «остраннении» повествования заставляет некоторых (Пильняк) заимствовать даже форму симфоний Андрея Белого. Мучительный, выкрученный, патетический стиль не говорит, а кричит о зареве вчерашних пожаров. У многих русских писателей все еще прыгают в глазах «кровавые мальчики».
Почти все они кажутся или желают казаться совершенными аморалистами. Как на современном портрете, человеческое лицо значит не больше кошки или кухонной посуды. Лишь у немногих (Леонов, Федин) просвечивает нечто от старой русской жалости к человеку. Большинство не уступает в жестокости Стендалю или Флоберу.
Слабость новой литературы очевидна: в ее бесформенности, безмерности, бесстильности. Но за всем этим стоит огромная сила, еще не высвободившаяся от власти стихий, но начавшая завоевание новой земли.
Ни малейшего сравнения с литературой не выдерживает новый театр. Он представляется нам очень интересным, но
==218
совершенно беспочвенным. Вернее, социальную почву его нужно искать в ночных московских кабаре эпохи военного коммунизма, где поэты, чекисты и воры объединялись на кокаине. Содержание нового зрелища сводится к жестокому гротеску. Режиссер довольствуется превращением человека в натюрморт, а театра — в блестящий цирк. С изгнанием слова театр становится чисто декоративным искусством, но с большим динамизмом движения. Исторически гротескный театр отражает кровавый бред 1918— 1919 годов в гурманском преломлении эстетов.
Театр Мейерхольда ставит перед нами вопрос: как возможно возрождение эстетства в революционной России? Выкорчевывая религию и буржуазную мораль, почему советские цензоры останавливаются перед снобистской эстетикой. Один из напрашивающихся ответов состоит в том, что в такой эстетике видят средство разрушения морали. Но это приводит нас к дальнейшему вопросу об отношении большевизма к морали и значении имморализма в современной русской культуре.
Самое старое поколение большевиков — девятидесятники — были релятивистами в теоретических вопросах морали и аскетами в личной жизни, продолжая полувековую традицию русской интеллигенции. Но уже поколение 1900-х годов воспитывалось в атмосфере анархического индивидуализма: ранний Горький, воскрешенный Писарев, Ницше и Гамсун, Андреев и Пшибышевский, журнал «Правда». Соседство с декадентами, иной раз довольно близкое в 1905 году, привило многим марксистам изрядную долю примитивного эстетизма. Парикмахерское выражение его мы наблюдаем в Луначарском. Но за ним стоит ряд дам, ныне сановниц, и более скромных, и более заслуженных перед художественной культурой России. Этой именно группе мы и обязаны сохранением русских дворцов и музеев. Однако стоящее за этим «консерваторством» мироощущение гораздо менее невинно. Оно оказало и продолжает оказывать большое, чаще всего разлагающее влияние на русскую молодежь пореволюционного времени. Определить его кратко можно так: это базаровщина, пропущенная сквозь брюсовщину.
1917 год сорвал с разрушенных гнезд массу авантюристов, искавших в революции сильных ощущений. Первые перебежчики из интеллигенции на службу новым господам были чаще всего люди без чести и совести. Все это создавало в годы гражданской войны остро пахнущий букет имморализма на верхах советского общества. Общаясь с продажными декадентами и жуирами, разлагались и недавние аскеты. Да и человеческая природа не выносит больших кровопусканий без наркотиков. Идейные чекисты неизбеж-
==219
но ищут забвения в кокаине, разврате или эстетике. Много страшнее, когда эстетический (или голый) имморализм захватывает свежие, здоровые слои революционной молодежи. Но это явление позднейших лет.
С концом героической эпопеи революции тысячи бойцов оказываются выброшенными на мель. Напившись свежей крови, они не желают «питаться падалью» добродетельного строительства. Годы идут, и это строительство постепенно разоблачается как грандиозный блеф. Начинается полоса советских буден, невыносимая для молодых умов, жаждущих подвига. Отсюда разочарованность нового поколения, приводящая к культу официально попираемой личности. Возрождается анархический индивидуализм, вообще характерный для послереволюционных эпох. Из русских прецедентов прежде всего напрашивается арцыбашевский Санин, выразивший «огарочные» настроения молодежи после 1905 года.
Девятидесятники, особенно девятидесятницы, первые забили тревогу. Начались поиски новой, пролетарской этики, долженствующей заменить этику христианскую. Эти теоретические потуги, конечно, обречены на неудачу. Но нельзя закрывать глаза на то, что в новой жизни довольно здоровых сил, которые ведут не без успеха борьбу с моральным разложением. Читая о половом бесстыдстве молодежи — тема, излюбленная и советскими романистами, — мы склонны обобщать эти явления. Они отвратительны, но едва ли типичны. Рядом со слабыми выродками растут здоровые и сильные юноши, которые умеют работать и понимают смысл общественной дисциплины. Революция создала не один имморализм, но и некоторые основы для новой этики: не пролетарской, но коллективистической. Это этика полувоенного типа: в ней много родственного скаутизму, и красные пионеры, в сущности, несут скаутское знамя, социально окрашенное. Служение обществу — в частности, своему коллективу — заменяет личное рыцарство. Жертва и здесь является краеугольным камнем. Пионер должен помогать слабым, женщине на улице, измученной лошади, пожарному, но и милиционеру при исполнении его обязанностей. И эти требования не остаются мертвой буквой. Быть может, в этой пионерской среде только и горит в России социальный идеализм. Уже в комсомольстве к нему примешиваются (если не преобладают) личные, карьерные мотивы; в этом же возрасте происходят кризисы миросозерцания, опустошающие душу, но и очищающие ее. Среди взрослых коммунистов в настоящие годы принципиальные люди встречаются в виде исключения. Чем больше революция идет на убыль, тем слабее сопротивление коллективистической этики разлага-
==220
ющим началам. Мы имели бы основание прийти в ужас за народ и его будущее, если бы революционным идеализмом исчерпывались духовные ресурсы нации. По счастью, это не так. «Новая культура» не покрывает всех живых сил, которыми спасается Россия. Эти силы — вне культуры, их источники бегут из подземной глубины, и шум этих вод заглушает в России нестройный стук молотков в руках строителей Вавилонской башни.
ЦЕРКОВЬ
В настоящих очерках социально-публицистического характера нет места для изучения идей и духовных реальностей. Реальности эти появляются в них лишь постольку, поскольку облекаются в общественно организованную форму :социальной группы, класса, партии. Известно, какую огромную социально-формирующую силу представляет религия. История христианских обществ не может быть построена без истории Церкви. Для классических эпох христианской культуры общество и Церковь совпадают. Однако в эпохи упадка социальное значение Церкви сильно суживается. Историю XVIII и XIX столетий можно писать, отвлекаясь от христианских церквей и сект. Оказалось возможным и историю разложения императорской России схематически чертить без изображения церковного быта XIX века. Быть может, это было некоторым упущением. Картина дворянского упадка могла бы быть дополнена очерком церковного оскудения. Мы увидели бы приниженность духовенства, угодливых и честолюбивых иерархов, сельских священников, погрязших в пьянстве и любостяжании, распущенных монахов: во всей России едва ли удалось бы насчитать десятка два обителей, в которых теплилась духовная жизнь. Для религиозного взора это наблюдение открывает многое: из подробности общей картины оно может стать ключом, объясняющим целое. Именно здесь, в религиозном центре, иссякали духовные силы нации. Но эту связь не легко показать убедительно для всех. Зато для всех явственно совершается возрождение Церкви в очистительном горниле революции.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Судьба и грехи России"
Книги похожие на "Судьба и грехи России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Георгий Федотов - Судьба и грехи России"
Отзывы читателей о книге "Судьба и грехи России", комментарии и мнения людей о произведении.