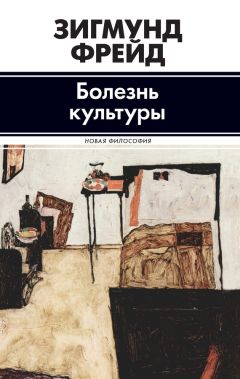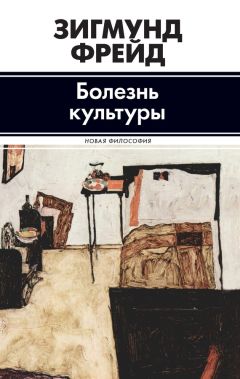Георгий Федотов - Судьба и грехи России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Судьба и грехи России"
Описание и краткое содержание "Судьба и грехи России" читать бесплатно онлайн.
Федотов Георгий Петрович(1886 - 1951 гг.) — выдающийся русский мыслитель и историк. Его научные интересы были сосредоточенны на средневековом и древнерусском христианстве. Был близок к Бердяеву и св. Марии (Скобцовой). Защитник свободы и честности в Церкви, мысли, обществе.
Федотов Г.П., Судьба и грехи России /избранные статьи по философии русской истории и культуры/
Вдумываясь в господствующие политические настроения, смутные чаяния во всех слоях общества, поражаешься, Насколько они не соответствовали официальным партийным группировкам. В России могли создаться по крайней мере три могущественные партии, из которых каждая могла бы повести страну. Они не создались из-за отсутствия вождей и идейного оформления.
Во-первых, «черносотенная» партия крестьянства, которая соединила бы религиозный монархизм с чёрным переделом. Народ до японской войны мечтал о царе Пугачеве. Для монархии этот путь был реально возможен. Пугачевщинамогла и не принять разрушительных форм, будь она провозглашена престолом и поддержана Церковью. В сущности, при слабости и быстрой ликвидации дворянского землевладения экономические потери были бы невелики. От монархии требовалось только одно: отказаться от гнилой опоры в дворянстве и опереться на крестьянство с возвращением к древним основам русской жизни. Это путь, указанный Достоевским и немногими идейными черносотенцами. Потери на этом пути: варваризация, утрата (временная) многого, созданного интеллигенцией за два века. Однако эти утраты были бы, может быть, не столь тяжелы, как в условиях марксистской пугачевщины Ленина.
Во-вторых, партия славянофильского либерализма: пра-
==164
вославная, национальная, но враждебная бюрократия и оторвавшемуся от народа дворянству, защищающая свободу печати и слова, единения царя и земли в формах Земского Собора. Эта партия могла бы быть не классовой, а всенародной, с ударением, однако же, на торгово-промышленные слои как силу земскую по преимуществу, почвенную и прогрессивную. Вырождение старого славянофильства в черносотенство конца 19-го века обескровило это направление. Однако в Москве (и провинции) никогда не угасала эта благородная традиция — Самариных, Шиповых, Трубецких. Самая распространенная в России газета «Русское слово», несмотря на наружную бульварную окраску, была именно органом этой никогда не оформившейся национально-либеральной партии. Миллионы людей в гуще провинциальной жизни мыслили и чувствовали по «Русскому слову», даже в среде дипломированной интеллигенции, расписанной по иным, радикальным и социалистическим, партиям. Огромная сила национального возрождения растрачивалась зря, растекаясь по чуждым ручейкам или заболачиваясь в низинах, за отсутствием вождей. Национально-демократическая партия приобрела бы огромный резонанс в городском купеческом и служивом населении, будь она почвенна и национальна. Конечно, ее успех был бы немыслим без доброй воли царя, от которого в этом случае требовался бы не жест Пугачева, а дело Александра II в идейном обрамлении Алексея Михайловича.
И, наконец, в-третьих, если выяснилась неспособность монархии к творческому акту, если путь революции оставался единственным открытием для интеллигенции, то теоретически мыслима партия демократической революции, русского якобинства. Ее элементы имелись уже в русской политической культуре, в памяти декабристов, в поэзии Некрасова и Шевченко, в прозе Герцена и Горького, с «Дубинушкой» в качестве национального гимна. Тысячи бунтовавших студентов именно в «Дубинушке», а не «Марсельезе» (всего менее в «Интернационале») находилиадекватное выражение вольнолюбивым своим чувствам. В «Дубинушке», да еще в песнях о Стеньке Разине, которые были в России поистине национальны. Русские радикальные юноши в массе своей безнадежно путались между с.-д. и с.-р., с трудом и внутренним отвращением совершая ненужный выбор между ними — ненужный потому, что не социалистическая идея волновала сердца, а манящий призрак свободы. В этой борьбе студенчество, конечно, было бы поддержано новой демократией, как мы ее определили, и крестьянством, которое поднялось бы за землю, кто бы ни обещал ее. Конечно, революционная стихия в России несла с собой неизбежно пугачевщину, сожжение усадеб, разгром богачей, но гроза
==165
пронеслась бы и вошедшее в берега море оставило бы (за вычетом помещиков) все те же классы в той же национальной России. Вчерашние бунтовщики оказались бы горячими патриотам, строителями великой России. Это путьреволюции в Германии, Италии, Турции. Почему же в России не нашлось места младотуркам и Кемалю-паше? Неужели турецкая политическая культура оказалась выше русской? Одна из причин этого столь невыгодного для нас несходства заключалась в том обстоятельстве, что турки учились у политически отсталой Франции, а мы у передовой, то есть у социалистической Германии. Но за этим стоит другое. Французские учебники оказались подходящими для Турции, потому что они твердили зады революции 1793 года — буржуазной и национальной. Турция 1913-го или 1918. года ближе к Франции 1793-го, чем современная Россия к современной Германии. За легковесностью политического багажа турецких генералов скрывается большая зоркость к условиям национальной жизни, большая чуткость, большая трезвость. Трезвые люди были и в России. Но им не хватало турецкой смелости. Нужно представить себе Скобелева, Драгомирова или Гучкова конспираторами, организующими дворцовый переворот, поднимающими военные восстания, чтобы почувствовать всю ирреальность этого исхода. Ни в русской армии, ни в русской интеллигенции не было людей, соединяющих холодную голову, понимание национальных задач с беззаветной смелостью и даже авантюризмом, необходимым для выполнения такого плана. Гражданский маразм, деформация политической психологии делали невозможным образование национальной революционной партии в России.
9. БЫЛА ЛИ РЕВОЛЮЦИЯ НЕОТВРАТИМОЙ?
Ставить так вопрос — не значит ли заниматься пророчествами наизнанку: гаданием о том, что могло бы быть и чего не было? — Самый никчемный, ибо ни на что не вдохновляющий вид пророчеств. — Вопрос этот может иметь смысл лишь как новая, оценочная и в то же время поверочная форма нашей аподиктической схемы. Отчасти это вопрос о вине и ответственности, отчасти поправка к безнадежно черной картине, умышленно односторонней, ибо предназначенной для объяснения гибели.
И вот, на пороге последней катастрофы, мы останавливаемся, чтобы сказать: не все в русской политической жизни было гнило и обречено. Силы возрождения боролись все вре-
==166
мя с болезнетворным ядом. Судьба России до самого конца висела на острие — как судьба всякой живой личности.
Начнем издалека.
Первый признак государственного упадка в России мы усматривали в политической атонии дворянства. Заметное с конца XVIII века явление это связано—отчасти, по крайней мере, — с крушением его конституционных мечтаний. Даже если мечтания эти не были ни особенно сильными, ни особенно распространенными, в интересах государства было привлечь дворянство как класс к строительству Империи: возложить на него бремя ответственности. Всенародное представительство в виде Земского Собора было невозможно с того момента, как все классы общества, кроме дворянства, остались за порогом новой культуры. Но дворянский сейм был возможен. Он сохранился повсюду в Восточной Европе, и русские государственные деятели часто испытывали его соблазн. Эта аристократическая (шведская) идея жила и в век Екатерины (граф Панин), и в век Александра I (Мордвинов). Декабристы — значительная часть их — усвоили демократические идеи якобинства, беспочвенные в крепостной России. Но и среди них, а еще более в кругах, сочувствующих им, в эпоху Пушкина были налицо и трезвые умы, и крупные политические таланты, чтобы, сомкнувшись вокруг трона, довести до конца роковое, но неизбежное дело европеизации России. Конечно, эта задача делала невозможным немедленное освобождение крестьян, которое неминуемо ввергло бы Россию в XVII век. Единственный шанс русского конституционализма в начале XIX века — это что крестьянство могло бы н е заметить перемены, всецело заслоненное от государства лицом помещика. Новый строй был бы принят им на веру, на слово царя. Постепенное приобщение к представительству других слоев — духовенства, интеллигенции, купечества — сообщало бы земский характер Собору, открывало бы возможности нормальной демократизации, плоды которой со временем достались бы и освобожденному крестьянству. Конечно, в тот день, когда царь апеллирует к народу, от дворянства не останется ничего. В этом, в необходимости политического самоограничения царя, и заключается практический утопизм конституционного пути. Абсолютизм нигде и никогда себя не ограничивал, а в России не было силы, способной ограничить его извне. Весь этот первый политический ренессанс — дворянский — был задушен навсегда тяжелой рукой Николая I.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Судьба и грехи России"
Книги похожие на "Судьба и грехи России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Георгий Федотов - Судьба и грехи России"
Отзывы читателей о книге "Судьба и грехи России", комментарии и мнения людей о произведении.