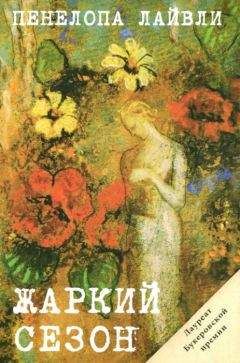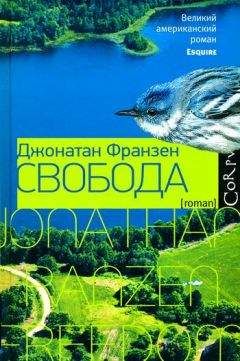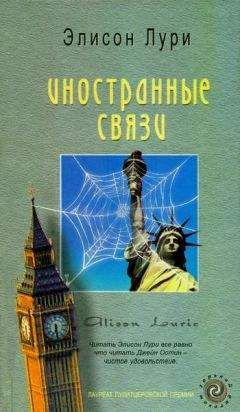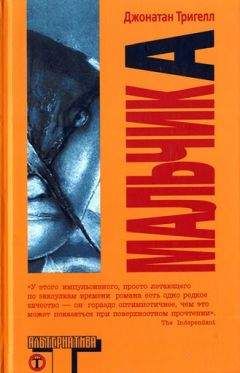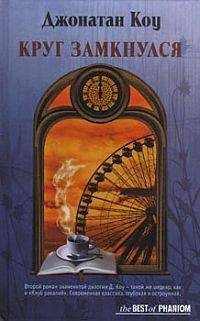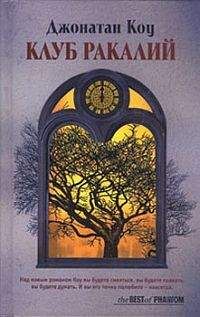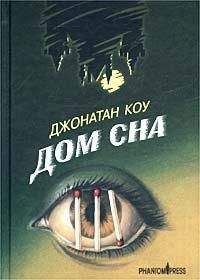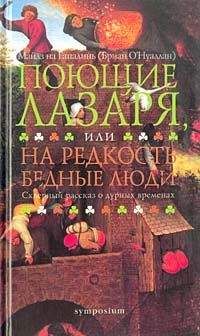Джонатан Майлз - Дорогие Американские Авиалинии

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Дорогие Американские Авиалинии"
Описание и краткое содержание "Дорогие Американские Авиалинии" читать бесплатно онлайн.
Джонатан Майлз — новое имя в английской литературе, но столь ярких дебютов не было очень давно. Майлза уже сравнивают с живым классиком английской литературы Мартином Эмисом — за блестящий стиль, за сшибающий с ног черный юмор и удивительный гуманизм.
Всем нам хоть раз пришлось торчать в аэропорту, маясь в ожидании отложенного рейса и страдая от экзистенциальной тоски. Для Бенджамина Форда, героя «Американских авиалиний», задержка рейса становится крахом его жизни. Погрузившись в состояние вне времени и пространства, он начинает писать претензию авиакомпании. Но обычная бюрократическая жалоба выливается в историю жизни, взлетов и падений, редких мгновений счастья. С юмором он рассказывает о своей первой и единственной любви, о детстве, о дочери, которую не видел два десятка лет и на свадьбу которой торопится. Героя, а вместе с ним и читателя швыряет то в хохот, то в надрыв. Вряд ли кому-нибудь еще удастся написать столь блестящий роман-жалобу.
Но правда: это же совершенно непостижимо, что в кабинках туалета нет никаких текстов. Аэропорты — это чашки Петри для скуки, гнева, никотиновой абстиненции и желудочно-кишечных расстройств — заведомых генераторов туалетных стихов, — и при этом здешние стены чисты, как глазное яблоко мертвеца. Я не обнаружил тут ничего, кроме беспорядочных царапин, которым я не нахожу объяснений, кроме того, что здешними туалетами пользуются во время пересадок цирковые тигры. Самое место какой-нибудь находчивой и недовольной персоне вдохновиться на написание нескольких строчек, например таких:
Всюду трахался я, где бы ни был:
В Суринаме, Тунисе, Бенине.
Но меня одолело уныние,
Я не буду довольным ни дня,
Пока не отымею те авиалинии,
Как они отымели меня.
Но нет, пусто. В этих туалетах никаких признаков жизни, кроме звуков и запахов бизнесменов, извергающих плоды своих командировочных расходов. Может, правду говорят? Может, и в самом деле поэзия умерла.
Моя-то уж точно. Последнее изданное стихотворение у меня случилось в 1995-м; последнее написанное — не считая той припевочки выше — где-то годом позже. Сказать, что этой смерти никто не заметил даже краем глаза, было бы ложной скромностью. В принципе, мы расстались по обоюдному согласию. Великая строчка из Ларкина «Не я бросил поэзию, это поэзия бросила меня» тут не подходит. Нет, устав от многолетней свары, мы взаимно бросили друг друга. Мать еще надеется на воссоединение и понукает меня — больше кнутом, чем пряником. НИКТО, гласит одна из ее липучек, НЕ ПОМНИТ ПЕРЕВОДЧИКА. «Ах, мисс Вилла, — проскулил я в ответ, — так и поэтов теперь никто не помнит». Официально (то есть когда спросит знакомый бармен) я бросил писать, убедившись, что поэзия — негодное оружие против этого мира. Ямбический пентаметр — не тот меч, которым можно разить зло или хотя бы скуку. Ну и все такое. И даже я сам иногда верю в это, но лишь иногда. Мне достаточно только помнить, какие потоки алой крови исторгали из меня стихи, — не мои стихи. И как стихотворения указывали мне путь в жизни, словно голубые взлетные огни. Или, вернее, — словно штырьки в настольной игре с железным шариком.
Мать ставит себе в заслугу то, что она зовет моей «художественной склонностью», — вполне подходящее описание для моего набора психических расстройств. Потому что давала мне карапузу барахтаться в грудах книг, пока сама сидела перед мольбертом в городском парке. Потому что у нее хватило морали и прозорливости не читать мне на ночь «Маленького черного Самбо».[55] Потому что она подписала меня на «Сполохи» и помогла сочинить первый опубликованный в печати опус — письмо к создателям комикса «Доктор Судьба и Тут-как-тут» (которое, я сейчас подумал, тоже было жалобой, — так что можно сказать, я всю жизнь готовился к моей теперешней задаче). «Художник» во мне, всегда уверяла мать, — от Дефоржей, воспитан соками только ее семейного древа. А по линии Форда née[56] Ниха, согласно мисс Вилле, я унаследовал только буйную шевелюру и необъяснимую любовь к согласным.
Как и в большинстве случаев, она ошибается. Отец никогда не читал для удовольствия — английский язык никакого удовольствия доставить ему не мог, а из польской литературы до Нового Орлеана не доходило практически ничего, — но он держал в голове целый склад польских стихов: Мицкевич, Витвицкий, Словацкий, все романтики 19 века. По вечерам, когда мать была «не дома» (чаще всего это означало, что она лежит в больнице, а иначе — на вечерних занятиях: японский рисунок тушью, школа бриджа. А то в обществе очередной «лучшей подруги», которые у нее постоянно менялись и неизбежно оказывались «предательницами»), отец, укладывая меня спать, ложился рядом и километрами читал наизусть напевные и восхитительно непонятные строки. Gdybym ja była słonecykiem na niebe, Nie swieciłabzm, jak tzlko dla ciebie. Для меня это был лингвистический белый шум: все эти польские безгласные окончания — как еле слышное потрескивание помех, шепот этих чщ-щ, подъемы и спады восьмисложных строк, баюкавшие меня, как океанская зыбь — моряка. Наверное, отец понимал, что не может предложить мне ничего другого, — разобрать книжку сказок дядюшки Римуса ему было не легче, чем перевести греческую Библию, — или, может быть (и я предпочитаю думать именно так), он наслаждался редкими и тайными минутами, когда мог вволю поговорить на родном языке и поделиться им со мной. Мать жестоко стыдилась его происхождения и запрещала ему говорить по-польски — ей казалось, что отец жалуется на годы, прожитые вместе с ней. К тому времени он ушел с ликвидаторской работы и стал автомехаником в мастерской на Пойдрас-стрит — поскольку там специализировались на импортных машинах, мать часто называла его «специалистом по „роллс-ройсам“», — так что, когда отец ложился рядом со мной, от него пахло моторным маслом, табаком и какими-то едкими растворителями, которыми он оттирал руки, чтобы мать не заводилась начет масляной корки на его пальцах. У меня мало нежных воспоминаний об отце: он работал, ел, любил «Шоу Лоренса Велка», где танцевали польку,[57] хотя радовался и другим движущимся картинкам; он чинил раковину, когда она начинала течь, и разводил камин утром на Рождество, пока мать сновала по гостиной и требовала, чтобы ей сказали, что праздник удался. Но в эти темные, затопленные стихами минуты он без преувеличения был волшебником — магом, который зазывал ко мне сны на своем тайном колдовском языке.
Я не слишком перегну палку, если скажу, что вырос на той поэзии. Когда я повзрослел, отец уже беззвучно скользил по дому серой тенью — призрак замученного мастерового, а матери по-прежнему требовалась целая команда психиатрических саперов. Они были мне не столько родители, сколько сокамерники, и мы все втайне отмечали дни нашего срока. Отец выиграл это мрачное состязание — он умер, когда мне было пятнадцать, во сне, от сердечного приступа. При всей внезапности этой смерти и при всей уязвимости моего возраста, уход отца я перенес до странности равнодушно. Он прожил всего сорок восемь лет, но казалось, будто умер пациент богадельни, давно уже лежачий раковый больной. Свершилось милосердие, и это был дар, а не утрата. Я даже не помню, чтобы плакал на похоронах. Мне казалось, будто я машу ему с пристани, провожая в новое и более счастливое путешествие. Напиши мне, mama. Не дрейфь.
В общем, когда пришло время мужать, оказалось, что мне не хватает житейского наставления, и за наукой я обратился к книгам, и в книгах стихов — особенно у Бодлера, Китса, Неруды, Лорки, Йейтса, у битников — нашел ту жизнь, о которой мечтал: страстную, безрассудную, мясную; брызги и клокотание кипящего земного бытия. Позвольте заявить сразу: так поэзию читать не стоит. Когда Неруда пишет, что «Было бы так замечательно расхаживать по улицам с зеленым ножом и орать во всю глотку, умирая от холода»,[58] он не хочет, чтобы его поняли буквально. Подсказкой номер один читателю должен стать дефицит зеленых ножей в местном магазине режущего инструмента, но поди объясни это впечатлительному семнадцатилетнему подростку. Мне нравилось, что слова и образы стихотворений скачут у меня в голове, и то, как от стихов несравнимо ни с чем ускоряется моя жизнь, как она срывается вперед на полном газу, и, в общем, я сам стал сочинять.
Не стану изводить вас дальнейшими подробностями моей творческой биографии, которая скучна и мне самому. Просто скажу, что после тридцати я пережил определенный «успех» — благодаря стихам, написанным почти исключительно до тридцати; те дни принесли мне кое-какие радости, дурманящий водоворот почестей, мелких наград и разгульной кутерьмы — помню, как однажды вечером ко мне без предупреждения заявилась парочка смешливых аспиранток с большой бутылкой водки и сборником стихов, который они меня просили подписать, и я подумал: вот оно, я сорвал свой байронический куш, — но все это скоро выдохлось. Одна из тех девчушек без всяких просьб взялась мне подрочить, но делала все так клинически уныло — мне казалось, будто она выдавливает мне прыщ, — что я остановил ее на полдороге, соврав, что у меня болит живот. Она спросила, не газы ли меня мучат, и на том вечер окончательно стух.
Я выдаивал из своей недолгой славы все, что мог, — стипендии, гранты, публичные чтения в колледжах, — но, не в состоянии удержаться на волне (то есть растратив запас юношеских стихотворений), я скоро вышел в тираж. Элиот сказал: «Я видел миг ущерба своего величья»[59] — эх, Том, мне тоже знакомо это зрелище. Не хотелось бы слишком жирно проводить черту или слюняво каяться, но это правда: весь «успех», что у меня был, возрос на лихорадочных рифмах моей юности, на стихах, писанных в пред-Стелловые годы. Пока хоть кто-то успел заметить пламя, осталась уже одна зола. Сколько бы я ни пыжился, мне так больше и не удалось подстроиться под интонацию и характер тех ранних сбивчивых, сальных, волком завывающих стихов. Я был исповедальным поэтом, который больше не хотел исповедоваться. Бывало, когда я выступал перед публикой, мне казалось, я кого-то заменяю — приятель умершего поэта читает его стихи, как Кеннет Кох читал на панихиде по Фрэнку О’Харе его великолепное и трогательное стихотворение о разговоре с Солнцем.[60] «Это произведение великого поэта», — сказал тогда Кох. И когда я выступал, у меня в голове проносились нескромные слова такого же плана: Произведение великого поэта. Какой стыд, что мы его лишились. А через несколько часов на коктейле с профессорами я, синий, отвечал «Пфффрр» в ответ на вопрос, над чем я работаю сейчас. И наконец пришло время, когда на мою программу вечно пьяного поэта велись уже только незадачливые парни-аспиранты, но они всегда легкая добыча. Такие до пяти утра наливали мне в надежде на дилан-томасовскую трагедию[61] — тогда они могли бы воспеть нашу пьянку.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Дорогие Американские Авиалинии"
Книги похожие на "Дорогие Американские Авиалинии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Джонатан Майлз - Дорогие Американские Авиалинии"
Отзывы читателей о книге "Дорогие Американские Авиалинии", комментарии и мнения людей о произведении.