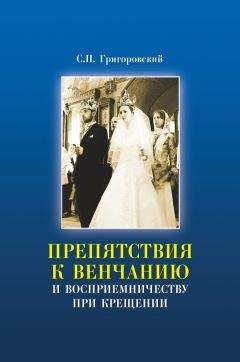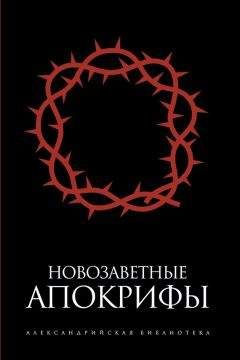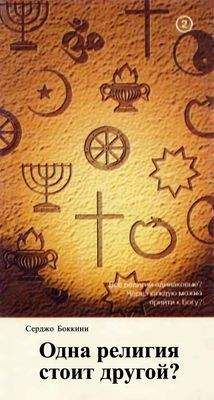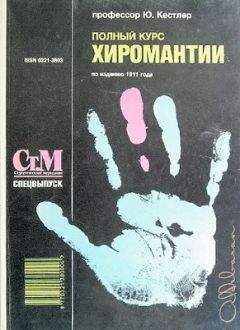Сергей Аверинцев - Аверинцев С. Другой Рим
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Аверинцев С. Другой Рим"
Описание и краткое содержание "Аверинцев С. Другой Рим" читать бесплатно онлайн.
Взгляды раннего Средневековья на природу государства и власти парадоксальны и могут быть до конца поняты лишь в контексте парадокса христианской эсхатологии, раздваивающей мессианский финал истории на «первое» и «второе» пришествие Христа. Уже через первое пришествие человеческая история мыслится преодоленной («Я победил мир»[85]), снятой и разомкнутой на «эсхатон», принципиально вступившей в «последние времена»[86] — однако лишь «невидимо», вне всякой наглядной очевидности; в эмпирии она продолжает длиться, хотя под сигнатурой конца и в ожидании конца. «ПарауЕ1 то охгра тот) кбоцог) тошои»[87], praeterit figura huius mundi, «преходит образ мира сего»[88] — именно преходящий, выведенный из тождества себе мир людей осознается как «схима» и «схема», как иносказательная «фигура», как «образ», отличный от первообраза — как аллегория. Промежуток внутренне противоречивого уже–но–еще–не[89] между тайным преодолением мира и явным концом мира, образовавшийся зазор между «невидимым» и «видимым»[90], между смыслом и фактом — вот идейная предпосылка для репрезентативно–символического представительства христианского автократора как государя «последних времен». Уже Тертуллиан, ненавидевший языческую Римскую империю, верил, что это последний устой человеческой истории, что конец Рима будет концом мира и освободит место для столкновения потусторонних сил. Тем охотнее усматривали в Римской империи заградительную стену против Антихриста и некое эсхатологическое «знамение», когда эта империя стала христианской. Оттон III (983—1002), полувизантиец на троне германских императоров «Римской» империи Запада, особенно серьезно считался с перспективой оказаться последним императором всех времен (в связи с концом первого тысячелетия христианской эры) — и потому в наибольшей степени ощущал себя christomimetes: «мимом», представителем, исполнителем роли Христа. Отсюда контрасты самопревозношения и самоуничижения: придворные художники окружали его церемониально–стилизованный, гиератический, доведенный почти до иероглифа образ атрибутами самого Христа[91] — и он же смиренным жестом слагал знаки власти у ног италийского аскета Нила, как актер, подчеркивающий различие между своей ролью и своей личностью.
Эстетика эмблемы — необходимое соединительное звено между философским умозрением и политической реальностью эпохи.
Идеология священной державы (то, что немцы называют Richstheologie) и христианская идеология были сцеплены этим звеном в единую систему обязательного мировоззрения: а между тем дело шло о двух различных идеологиях с различным генезисом и различной сутью, вовсе не утерявших своего различия даже на византийском Востоке, не говоря уже о латинском Западе[92]. Они не могли «притереться» друг к другу без серьезных и продолжительных «трений» (официозное арианство в IV в., официозное монофелитство в VII в., официозное иконоборчество в VIII—IX вв. как ряд последовательных попыток преодолеть идею Церкви во имя идеи империи — и оппозиция Афанасия, Максима Исповедника, Феодора Студита как ряд последовательных попыток субординировать идею империи идее Церкви[93]).
Император Запада вел спор с папой за право быть единственным наместником власти Христа — и в конце концов проиграл этот спор. Даже император Востока вел спор с иконой за право быть единственным образом присутствия Христа — и тоже проиграл спор. Тяжба шла о праве быть держателем символа[94] и примирение имперской идеи с христианской идеей, их сопряжение в единую систему «правоверия» могло происходить всякий раз только при медиации платонически окрашенного I имволизма.
Христианство как таковое было для империи лишь знаком (еще раз: «In hoc signo vinces»).
Империя как таковая тоже была для христианства лишь знаком (еще раз: «изображение и надпись» на евангельском динарии кесаря — и обреченная прейти «схема» и «фигура» мира сего).
Описание христианских тем в образах имперской государственности или имперских тем в образах христианской теологии — общее место литературы раннего Средневековья (а также всего, что «литературно» в искусстве раннего Средневековья). Но это явление оказалось возможно не в последнюю очередь потому, что над литературой раннего Средневековья господствует фундаментальный поэтический принцип пара–болы и пара–фразы (что связано с фундаментальным мировоззренческим принципом пара–докса', хотя в силу специфики эстетических форм сознания не может быть с ним отождествлено).
ПосрарсЛт! — по буквальному значению возле–брошенное–сло–во: слово, не устремленное к своему предмету, но блуждающее и витающее возле него; не называющее вещь, а скорее загадывающее эту вещь (ср. утверждение новозаветного текста, что до окончания этого «зона» мы видим всё только «через зерцало в загадке» — 5i еоолтрои ev аМуцатг[95].
Парафраац или цЈшсрраоц — по буквальному значению пересказывание: ино–сказательное высказывание того–же–по–ино–му, «пере–ложение» смысла из одних слов в другие[96].
Чтобы познакомиться с этим поэтическим принципом, приведем в буквальном переводе несколько строк из одной «парафразы», которая в каждом отрывке своей словесной ткани предстает перед нами как парабола — и как парадокс. Этот текст принадлежит одному из самых продуктивных, влиятельных и типичных для своей эпохи поэтов, работавших на переломе от античности к Средневековью, а именно Нонну Пано–политанскому. Отрывок взят наугад из «Переложения Евангелия от Иоанна», парафразирующего новозаветный материал в метрических и фразеологических формах античного эпоса; речь идет о Иоанне Крестителе.
…В пчелинопастбищной пустыне
был некий гороскиталец, горожанин безлюдной скалы, вестник начального крещения; имя же ему — божественный народохранитель Иоанн…[97]
В такой системе поэтики анахорета можно и должно назвать «горожанином[98] безлюдной скалы» именно потому, что его жизнь на «безлюдной скале» предельно не похожа на жизнь горожанина в людном городе; это не ассоциация по смежности — это ассоциация по противоположности. Вспомнив вошедший в поговорку курьез из области античного этимологизирования, хочется воскликнуть: Canis а поп canendo![99] Конечно, перед нами самая последняя, сверхцивилизованная стадия тысячелетних путей античной риторики, ее приход к своему концу, к своему пределу — доведение себя самой до абсурда. Но одновременно это ее возврат к своей первоначальной невинности, к самому первобытному и первозданному, что может быть[100], — к поэтике загадки. Мы сказали «загадка» и сразу поставили себя в необходимость охватывать взглядом два различных плана: мировоззренческий и формально–жанровый. В мировоззренческом плане се'туца («загадка», «энигма») — одно из самых ходовых и ключевых понятий средневековой теории символа. Предполагалось, что существенное преимущество Церкви как держательницы «истинной веры» и состоит в том, что она, в отличие от «неверных», знает разгадку: разгадку загадки мироздания, неведомую язычникам, и разгадку загадки Писания, неведомую иудеям. Вверенные ей «ключи Царства Небесного» — это одновременно ключ к космическому и скрипту–ральному шифру, к двум видам текста: к универсуму, читаемому как энигматическая книга[101], и к «Книге», понимаемой как целый универсум — universum symbolicum. (В этом смысле можно сказать, варьируя уже сказанное в поисках новых смысловых моментов, что для христианства «как такового» политическая реальность римско–ромейской империи была только энигмой, ключ к которой — эсхатологическая перспектива «царства Божьего»; но в свою очередь для имперской идеологии «как таковой» христианское учение о gubernatio Dei было только энигмой, ключ к которой — порядок вселенской сакральной державы на земле.)
Но наряду с идеологическим планом существует и сохраняет свою автономию формально–жанровый план, в границах которого все выглядит совершенно иначе: энигма — уже не принцип платоновско–христианского идеализма, но «попросту» загадка, то есть нечто до крайности архаическое, народное и общеизвестное, воплощение очень древней стадии словесного искусства. Стихия загадки определяет собой поэзию варварского мира, подступавшего к Средиземноморью с востока и с севера. С замысловатого нагнетания эпитетов, в которых загадан принципиально не названный предмет, начинается почти во времена Нонна доисламская арабская поэзия[102]. С «кеннингов», то есть хитроумных и многосложных переименований предмета, начинается позднее германско–скандинавская поэзия[103]. Приведенное выше обозначение Иоанна Крестителя у Нонна можно с некоторой долей метафоричности назвать «кеннингом» в греко–язычной поэзии[104]. Историки литературы не раз жаловались на «варварский» характер вдохновения Нонна, далеко ушедшего от эллинской «меры» и «ясности», как и следует ожидать от первого «византийца» и постольку экс–эллина[105]. Но в свете всего сказанного эпитет варварский неожиданно приобретает позитивное наполнение и превращается из неопределенной укоризны в некое подобие конкретной характеристики. Нонн творил варварскую поэзию, потому что был чутким современником великой эпохи варваров. Но важно увидеть, как сходились крайности: между позднеантичной изощренностью и архаикой варварской магии слова, между «высоколобым» философским символизмом и народной приверженностью к нехитрой игре в загадки[106] оказывалось куда больше точек соприкосновения, чем это может представиться поверхностному взгляду. Если бы это было не так, великий идеологический и культурный синтез Средневековья — духовный коррелят «феодального синтеза» — оказался бы немыслимым. Ибо суть синтеза и состоит во вторичном «приведении к общему знаменателю» ценностей, традиций и тенденций, генетически имеющих между собой мало общего[107], — примерно так, как в архитектурном целом константинопольской Св. Софии эстетически соотнеслись друг с другом и со всем своим новым окружением восемь мраморных колонн, извлеченных из руин Эфеса, и восемь порфировых колонн, извлеченных из руин Баальбека.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Аверинцев С. Другой Рим"
Книги похожие на "Аверинцев С. Другой Рим" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Аверинцев - Аверинцев С. Другой Рим"
Отзывы читателей о книге "Аверинцев С. Другой Рим", комментарии и мнения людей о произведении.