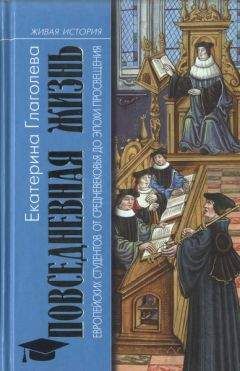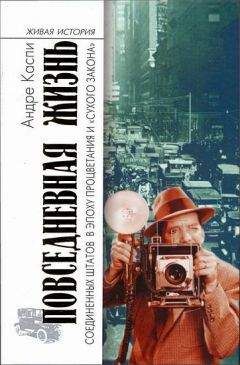Лидия Ивченко - Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года"
Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года" читать бесплатно онлайн.
В эпоху 1812 года ремесло военных считалось в России самым почетным; русский офицер — «дворянин шпаги» — стоял в глазах общества чрезвычайно высоко, можно сказать, был окружен атмосферой всеобщего обожания.
Именно о «детях Марса», до конца дней живших дорогими для них воспоминаниями о минувших боях и походах, об их начальниках, сослуживцах, друзьях, павших в сражениях, эта книга. Автор не старался строго придерживаться хронологии в рассказе о событиях, потому что книга не о событиях, а о главном предмете истории — людях, их судьбах, характерах, образе мыслей, поступках, привычках, о том, как определялись в службу, получали образование, зачислялись в полки, собирались в поход, сражались, получали повышения в чине и награды, отдыхали от бранных трудов, влюблялись, дружили, теряли друзей на войне и на дуэлях, — о том, из чего складывалась повседневная жизнь офицеров эпохи 1812 года.
Особое внимание автор уделяет письмам, дневникам и воспоминаниям участников Отечественной войны 1812 года, так как именно в этом виде источников присутствует сильное личностное начало, позволяющее увидеть за далью времен особый тип военных той эпохи.
Помимо горделивой самонадеянности, ограничиваемой искренней религиозностью, начальник должен был обладать особым талантом «влюблять в себя подчиненных». В противном случае, как бы он повел их за собой на смерть? «С орлиной наружностью, с метким в душу солдата словом, веселым видом, с готовою уже славой, присутствием своим воспламенял войска» — так рисовал облик князя П. И. Багратиона П. X. Граббе. Заметим, неприветливое обхождение с подчиненными, неумение «удерживаться в отношениях» с равными и вышестоящими по чину в те далекие времена могло стоить карьеры либо сыграть плохую роль в армии, комплектовавшейся на основе рекрутской системы, с одной стороны, и Указа о вольности дворянской — с другой, и где все еще сохранялись патриархальные взаимоотношения «крестьянин — барин». Для нижних чинов, отдававших тяжелой солдатской службе иногда по четверти века, да и для многих офицеров, зачастую служивших пожизненно, нередко главной и единственной радостью были добрые слова начальника, бравшего на себя обязанность, которая не каждому была по силам: не обмануть безграничного доверия людей, постоянно находясь у них перед глазами. «Здесь жена моя — честь, солдаты — дети мои!» — крикнул генерал Д. С. Дохтуров во время обороны Смоленска адъютантам, пытавшимся вывести его из-под огня и напоминавшим ему о семье.
В корпусе Д. С. Дохтурова служил H. Е. Митаревский, через много лет с теплотой вспоминавший о патриархальной задушевности отношений, царившей в этом воинском соединении: «В нашем корпусе все, от начальника дивизии генерала Капцевича и начальника артиллерии генерала Костенецкого до корпусного командира генерала Дохтурова, — были люди благородные и добрейшие. Кто бы мог сказать, хотя про Дохтурова, что он с кроткой, спокойной, доброй физиономией не соединял душу героя? Редкий день нам не случалось его видеть и во все время только один раз видели его встревоженным, впрочем, от совершенно пустого случая и один раз сердитым. При отступлении от Малоярославца к Полотняным заводам он всю ночь ездил по корпусу и кричал. Тут досталось и на мою долю. Если, бывало, начальники иногда и взыскивали, то всегда с какой-то отеческой добротой. Раз вот что случилось. При отступлении от Смоленска, не помню, на каком переходе, был чрезвычайно жаркий день и пыль страшная; нельзя было смотреть без жалости на солдат и офицеров, — так лица их были обезображены потом и пылью. Далеко уже за полдень приказано было армии остановиться для отдыха, где кто шел. Пехота составила ружья, а мы свернули с дороги и остановились, не отпрягая лошадей, около небольшой рощи. Впереди была речка и на ней мостик. Человек пять из нас сбросили шпаги и что было лишнего на лафеты и побежали к речке купаться. Бежали, кто кого перегонит. Я подтолкнул кого-то и чуть не сшиб его с ног, а один офицер, считавшийся между нами порядочным шалуном, вскочил на плечи другому офицеру. В это время случайно взглянули мы направо и увидали, что в кустах сидят и смотрят на нас: наш дивизионный генерал Капцевич, дивизионный 24-й дивизии старик Лихачев и другие генералы с порядочною свитою адъютантов. Разумеется, мы сконфузились, сняли фуражки и ждали выговора. Лихачев, посмотрев на нас, ласково спросил: "Что, господа, верно купаться?" — "Так точно, ваше превосходительство". Престарелый генерал взволнованным голосом сказал: "С Богом, с Богом, господа!" — а у самого слезы показались на глазах. Вероятно, он подумал о счастливой молодости, которая, несмотря ни на что, не унывает»{2}. Бог знает, о чем подумал «дивизионный старик Лихачев», которому было в то время 54 года, глядя на своих офицеров, не успевших растерять детские привычки. Но, когда в битве при Бородине генерал увидел подступы к батарее Раевского, сплошь покрытые телами офицеров и солдат своей 24-й пехотной дивизии (по словам французов, «дивизия Лихачева, казалось, мертвая продолжала оборонять редут»), он не захотел пережить своих подчиненных и бросился грудью на штыки вбегавшего в укрепление неприятеля. Он был взят в плен, представлен Наполеону, распорядившемуся отправить генерала во Францию, но в конце 1812 года П. Г. Лихачев был освобожден в Кенигсберге русскими войсками, а в начале 1813 года он скончался.
Взаимоотношения «начальник — подчиненный» в те годы носили совершенно особый характер. Унтер-офицер Тихонов запечатлел в своем рассказе примету времени: «Начальство под Бородином было такое, какого не скоро опять дождемся»{3}. Действительно, воспоминания нижних чинов, большинство из которых в прошлом были крепостными крестьянами, подтверждают, что офицер для них был прежде всего господином, существом «высшего порядка». Но именно по этой причине внимание начальника к нижним чинам (которым он ни при каких обстоятельствах не подавал руки, ибо это считалось бесчестьем для дворянина) делало их счастливыми и оставляло памятный след в их душах на всю жизнь. Так, А. Н. Марин рассказывал о своем брате С. Н. Марине: «Главная черта его характера — добродетели и природное дарование снискивать любовь и доверенность как начальников, так и подчиненных. Последние, мало сказать, любили его, нет, они были страстны к нему и при воспоминании, как любовники о любовницах, и теперь равнодушно говорить о нем не могут. Недавно я встретился с отставным офицером, бывшим фельдфебелем в его батальоне, при упоминании фамилии своего начальника старик встрепенулся; руки по швам и в его воображении Марин присутствовал перед ним. "Да, ваше высокоблагородие (слезы блеснули на изрубленном лице воина), да, мы бы все готовы умереть с отцом нашим Сергеем Никифоровичем; лучше бы мне размозжил голову тот черепок гранаты, который попал вскольз виска отца нашего командира. Его высокоблагородие упал, а мы остались как овцы без пастыря. Я помню, как отец наш прощался с нами. „Прощайте, ребята!“ — восторг горести и приятного воспоминания заставил его так вскрикнуть, вспомнив слова своего командира, что я и бывшие тут со мною испугались. „Прощайте, ребята! Спасибо вам, что хорошо служили вместе со мною“. Стрелки пробормотали сквозь слезы: „Прощайте, ваше высокоблагородие“. А когда благодетель сказал мне: „Прощай, Константинов, я тебя не забуду“, то…" Тут рассказчик зарыдал и не мог более проговорить ни одного слова»{4}.
Конечно, не стоит идеализировать отношения между крепостником и крепостным крестьянином, между офицером и солдатом. «Они переносили в войска привычки родительского дома, своеволие и все привычки помещичьего быта. <…> Солдат в глазах тогдашних офицеров был тот же крестьянин, над которым они имели власть жизни и смерти», — справедливо отметил Н. Ф. Дубровин во второй половине XIX столетия. В «пореформенный» период эти замечания были особенно актуальны; казалось, стоит только отменить крепостное право и все проблемы решатся сами собой. В наши дни, когда эта тема перестала быть столь злободневной, следует признать, что отношения между господами офицерами и нижними чинами в эпоху 1812 года в бесконечно воюющей армии нередко приобретали форму боевого содружества. Неслучайно М. И. Кутузов часто употреблял в приказах такое обращение, как «товарищ» или «товарищи», объединяя в этом слове всех, кто служил в армии, невзирая на сословные различия. Именно в царствование Александра I прилагались немалые усилия, чтобы истребить в армии «закоренелую привычку к рукоприкладству». В качестве компромисса в сословных различиях между офицерами и нижними чинами следует признать существование в русской армии традиции награждать заслуги и тех и других. Так, медаль «1812 год» получили все участники кампании, в то время как в Великобритании ветераны войны с Наполеоном в Испании, из-за противодействия герцога Веллингтона, получили памятные медали лишь в 1849 году; многие из них просто не дожили до этого дня{5}. Немало русских офицеров с честью носило «солдатского Георгия» — знак отличия военного ордена, которым они могли быть награждены в чине прапорщиков. Даже ополченец И. М. Благовещенский, оказавшись в армии, ни минуты не сомневался, как следует строить отношения с сослуживцами: «Ход куражил по званию меня и был по службе любим и щастлив начальниками, каковую внимательность в полной мере чувствовал и оправдывал усердием, чтоб заслужить их доверие, всегда стремился быть прилежным и исполнительным по службе, деятельным в попечении вверенном»{6}.
Таким образом, «слуга царю, отец солдатам» — это не вымышленный литературный образ, это почти нарицательное имя. Денис Давыдов составил «характеристическое» описание прославленных русских полководцев эпохи Наполеоновских войн, противопоставив их «герою новых дней» фельдмаршалу И. И. Дибичу-Забалканскому: из отрывка сочинения поэта-партизана явствует, что военачальникам, которых он привел в пример, свойственна была не только определенная этика, но не менее определенная эстетика поведения (помимо чистой головы и опрятности в одежде): «Безрассудно было бы требовать от военачальника — черт Аполлона, кудрей Антиноя или стана Потемкина, Румянцева и Ермолова. Физическое сложение не во власти человека, да и к чему оно? Не гремели ли славою и хромые Агезилаи и горбатые Люксембурга, и рыжие Лаудоны? Но можно, должно и во власти Дибича было озаботиться, по крайней мере, о некотором приличии в одежде и осанке и некоторой необходимой опрятности. Неужели помешало бы его важным занятиям несколько пригоршней воды, брошенной в лицо грязное, и несколько причесок головы сальной и всклокоченной? Он, как говорили приверженцы его, был выше этого мелочного дела; но имел ли он право так презирать все эти мелочи, когда сам великий Суворов тщательно наблюдал за чистотой одежды и белья, им носимых? <…> Все это было приправлено какими-то застенчивыми и порывистыми ужимками, ухватками и приемами, означающими ничтожного выскочку, обязанного своим повышением лишь слепой фортуне. Я не переставал напрягать мысли мои, чтоб убедить себя в том, что под сею неблаговидною оболочкою скрываются превосходные таланты, и, вместе с тем, невольно был смущаем безотчетным инстинктом, говорящим мне, что я сам себя обманываю, что Дибич не на своем месте и что мы с ним ничего славного не предпримем и не сделаем.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года"
Книги похожие на "Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лидия Ивченко - Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года"
Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года", комментарии и мнения людей о произведении.