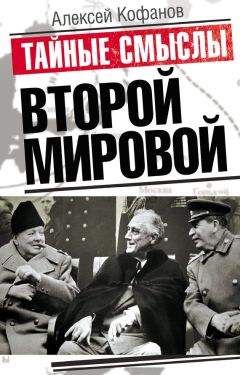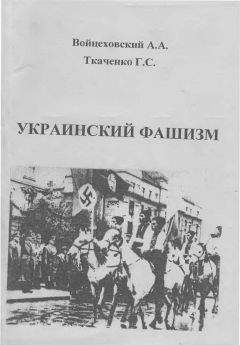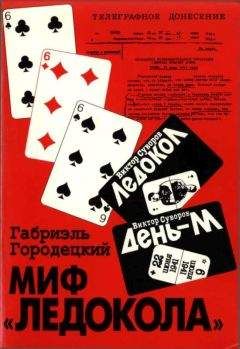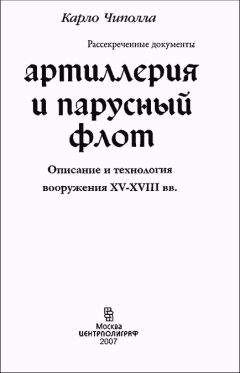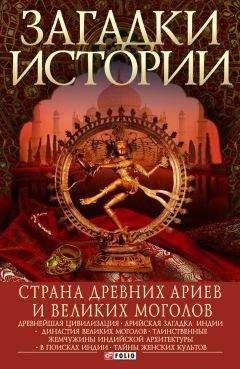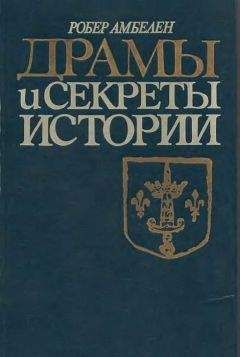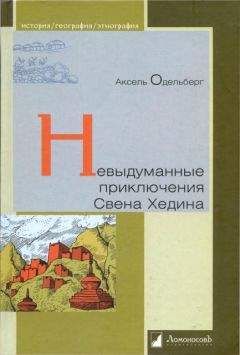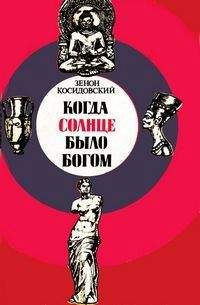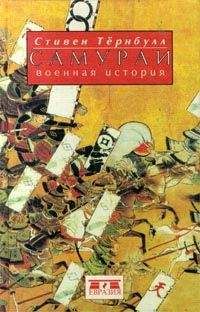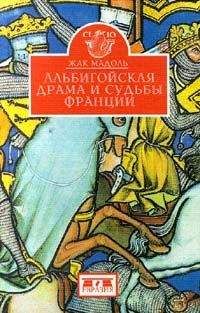Александра Ленель-Лавастин - Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран
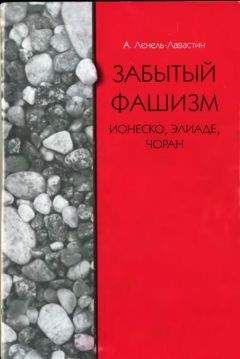
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран"
Описание и краткое содержание "Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран" читать бесплатно онлайн.
Национальный вопрос особенно болезнен для стран, претерпевших национальное унижение. Таким унижением было поражение фашистской Румынии во Второй мировой войне. Одним из способов восстановления национального престижа является воздвижение на пьедестал исторических героев нации. Для Румынии ими стали выдающийся ученый М. Элиаде, известный публицист Э. Чоран и драматург с мировым именем Э. Ионеско.
Автор книги, не умаляя их профессиональных заслуг, сосредоточивает внимание на социально-политических взглядах, гражданской позиции в трагичные для страны годы фашизма. Доказывая на огромном фактическом материале их профашистские настроения, А. Ленель-Лавастин предостерегает современные поколения от некритической эйфории в отношении «великих румын», способной объективно привести к поддержке обретающего силу неофашизма.
Книга написана живым, ярким, нередко полемичным языком и предназначена для широкого круга читателей.
К приведенной аргументации во Франции серьезно прислушаются по двум причинам, чреватым, на наш взгляд, недоразумениями. Первая заключается в известном патернализме по следующему поводу: «Восточноевропейские интеллектуалы по-прежнему поклоняются своим идолам, это понятно. Но стоит ли мерить их той же меркой, что и нас, баловней истории и ее правопреемников? Стоит ли предъявлять к ним те же требования, что мы предъявляем к нам самим, в том числе и в области истории или социологии интеллектуалов?» Данная позиция порой проникнута постколониальной снисходительностью, не проявляющей себя открыто, за исключением того случая, когда она сочетается с определенной недобросовестностью. Ряд западных интеллектуалов не оказали поддержки демократам-диссидентам в 1970—1980-е годы и теперь пытаются компенсировать возникшую неловкость избыточным патернализмом. Они не отдают себе отчета в том, что их позиция стимулирует воспроизводство жертвенных схем и действия по возрождению культурного национализма с катастрофическими последствиями (и все это под предлогом «Они так много страдали»). Они не понимают, что устраняют всякую возможность эволюции национализма в направлении умеренного патриотизма, одновременно увеличивая возможности провала восточноевропейских стран на международной арене — и это в момент вступления последних в Объединенную Европу.
Поэты и мыслители (Dichter und Denker) в Центральной Европе, судьи и палачи (Richter und Henker) в России и ГерманииВторая из вышеупомянутых причин основана на возвращении к великому спору о сходстве нацизма и коммунизма[1067]. Наиболее идеологизированные подходы французских участников дискуссии не позволяют принять позицию, которую, впрочем, давно разделяют многие специалисты региона. Суть ее состоит в том, что и с учетом центральной роли советского фактора глубже понять феномен коммунизма в Восточной Европе можно только при одном условии: строить анализ событий межвоенных лет на более общих рассуждениях о тех имманентных составляющих данных социумов, которые обусловили высокую степень их уязвимости к воцарению тоталитарного насилия. В румынской ситуации данное направление анализа предстает абсолютно необходимым. Ведь особенностью ультранационализма, к которому обратился коммунистический режим с 1970—1980-х годов, была попытка обосновать свою легитимность в риторике о «национальной чести», при одновременной реабилитации целого ряда теоретиков румынского архаизма, чье творчество пришлось на довоенные годы. В их числе, как мы видели, был и Мирча Элиаде.
И в этом случае стремление многих интеллектуалов Запада собраться у изголовья Европы и рассматривать ее исключительно как несчастную произошло за счет сведения ее истории к более-менее мифическим мотивам. Предпочитали и всегда будут отдавать предпочтение «Похищенному Западу» Милана Кундеры, а не исследованиям настроенных критически историков или смутьянов-социологов из Восточной Европы, из тех, которые и до и после 1989 г. отказывались принять такую удобную аксиому: Центральной Европе — поэтов и мыслителей, России и Германии — судей и палачей. Одним словом, вместо того, чтобы стимулировать интеллигенцию Другой Европы к продвижению по пути Ответственности, начертанному такими личностями, как Ян Паточка, Вацлав Гавел, Адам Михник, мы отдаем все наши нежные чувства чистому и славному среднеевропейскому прошлому, а вовсе не демистифицирующим его мыслителям. Но что нам говорил как раз по этому поводу поляк Рафал Групински? Задав в 1980-е годы вопрос: «Что такое Центральная Европа?», он отвечал на него: «Это регион, населенный людьми, желания которых устремляются не столько к европейской культуре, не столько к парламентаризму и уважению прав человека, сколько к царящему в Европе обществу потребления»[1068]. Здесь скрыт целый пласт рассуждений восточноевропейцев о самих себе, а мы упрямо отказываемся их слышать. Здесь и храброе обращение чешских историков критического направления еще в конце 1970-х годов к вопросу о жестоком изгнании немцев из Судетов в 1945 г., это и «экзамен совести», на котором настаивал с 1981 г. католик и бывший член «Солидарности» Ян Юзеф Липски, — касательно роли поляков в Катастрофе. Уже у этих ученых можно найти строгие предупреждения против «культа домашних ценностей», против гибельных порывов ксенофобии, в том числе и тех, которые случались в годы коммунизма. Многие тогда подчеркивали, что новейшая история малых восточноевропейских стран — это прежде всего история их разделения, и их элиты внесли достаточный вклад в их разрушение, равно как и в провал демократического эксперимента в 1930-е годы. Венгерский социолог Дьердь Конрад замечает: «В конце концов, это мы, центральноевропейцы, развязали две мировых войны». «Наши националистические оды включены во все европейские школьные учебники», — напоминает о роли писателей чех Иржи Груса. К таким интеллектуалами и прежде, и ныне не прислушиваются — ни на берегах Дуная, ни на берегах Сены.
Наконец, следует добавить — опять-таки применительно к вопросу о вхождении в Объединенную Европу — тот более общий контекст, в рамках которого во Франции объединились обратные воздействия книги Виктора Фариаса о Хайдеггере «Хайдеггер и нацизм», опубликованной в 1987 г., и в более общем виде, в 1990-е годы, общее раздражение от непрекращавшихся напоминаний о необходимости памяти. Франция, кроме того, обеспокоена усилением собственной культурной провинциальности — и не беспричинно. А Мирча Элиаде, Эмил Чоран и Эжен Ионеско превратились в часть ее культурного наследия.
Автор настоящей работы решил нарушить молчание и попытаться выступить вразрез со сложившимся патерналистским подходом. Благодаря этому, на наш взгляд, может выиграть более общее дело — могут возрасти шансы на успех европейского строительства. Проблема использования прошлого является здесь центральной, поскольку во многих бывших коммунистических странах Восточной Европы все еще приходится иметь дело с историографией, неспособной противостоять не столько извлеченным из архивов фактам, сколько реконструкции идентичности, отмеченной безумной погоней за изначальной невинностью. И здесь ученые должны сыграть основополагающую роль: мы явно окажем плохую услугу восточноевропейским обществам и тем их исследователям, которые сражаются на переднем крае демистификации, если будем удерживать их в рамках апологетического подхода к их собственной истории. Ионеско высказал это наилучшим образом еще в 1930-е годы: европейская культура не есть некая застывшая данность. «Для нас культура неизбежно означает иностранизацию, отдаление». Большинство его соотечественников имели другие взгляды — всем известно, чем это обернулось.
СИМВОЛИЧЕСКИЕ БИОГРАФИИ: ВМЕСТО ВЫВОДОВ
Чем это обернулось... Это в какой-то степени и составляет сюжет нашей книги. Мы произвели экскурс в прошлое на основе множества документов, в большинстве своем неизданных. Политические аспекты этого экскурса оказались суровыми и мучительными. Применительно к Мирче Элиаде и Эмилу Чорану через это все же надо было пройти, чтобы прекратить полемику и точно установить условия их участия в Железной гвардии и увлеченности европейскими фашистскими движениями. Важно было также проанализировать, насколько важное значение имели этические и политические результаты сделанного ими выбора. Потому что речь идет о глубоком, длительном, получившем философское обоснование пристрастии, абсолютно не соответствующем ранее принятой концепции «греха молодости». Последняя была обманчивым шаблоном, задуманным с целью получить отпущение грехов. В то же время пути обоих ученых в фашизме оказались менее сходны, чем это представлялось.
При том, что в идеологии Элиаде и Чорана наблюдалось много сходного (в том числе ксенофобия, антисемитизм, вера в Нового человека и в тоталитарное государство), обнаруживаются поразительные расхождения между спиритуалистским фашизмом одного и революционно-консервативными взглядами другого, в которых к тому же явно просматривались национал-большевистские интонации. Эти различия прослеживаются вплоть до того варианта юдофобии, который каждый из них воплощает. Оба они предусматривают в проекте переустройства национального сообщества если и не исключение «чужаков» и евреев, то, по крайней мере, введение дискриминационного законодательства, способного ограничить наносимый ими «вред»: Элиаде упоминает о «токсинах», Чоран — о «яде». Им обоим этнократия представляется своеобразной формой исторического реванша со стороны Народа, который вечно считается жертвой и «угнетенным». При всем том Элиаде с его горячностью скорее разделяет позиции Робера Брасссильяка, Чоран — Людвига Клагеса. Их сближает общее желание: употребить всю их известность, весь их авторитет признанных интеллектуалов для развития теоретической базы нового национализма, за наступление которого они ратуют, и наконец постараться вдохнуть в него стремление к достижению европейского размаха. «Христианская революция», исповедуемая Элиаде и воплотившаяся, по его мнению, в Легионерском движении, имела целью не только вывод Румынии из застоя; в 1937 г. ученый видел ее предназначение в том, чтобы совершить «величайшую революцию из всех, когда-либо имевших место в Европе». Как мы показали, данное убеждение Элиаде сохранял до 1945 г. — до разгрома фашистской Германии.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран"
Книги похожие на "Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александра Ленель-Лавастин - Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран"
Отзывы читателей о книге "Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран", комментарии и мнения людей о произведении.