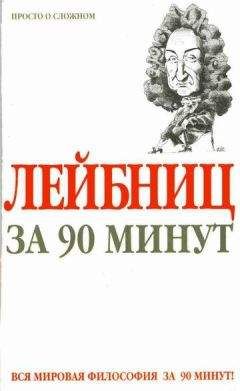Жиль Делёз - Складка. Лейбниц и барокко
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Складка. Лейбниц и барокко"
Описание и краткое содержание "Складка. Лейбниц и барокко" читать бесплатно онлайн.
Похоже, наиболее эффективным чтение этой книги окажется для математиков, особенно специалистов по топологии. Книга перенасыщена математическими аллюзиями и многочисленными вариациями на тему пространственных преобразований. Можно без особых натяжек сказать, что книга Делеза посвящена барочной математике, а именно дифференциальному исчислению, которое изобрел Лейбниц. Именно лейбницевский, а никак не ньютоновский, вариант исчисления бесконечно малых проникнут совершенно особым барочным духом. Барокко толкуется Делезом как некая оперативная функция, или характерная черта, состоящая в беспрестанном производстве складок, в их нагромождении, разрастании, трансформации, в их устремленности в бесконечность. Образуемая таким образом бесконечная складка (сразу напрашивается образ разросшейся до гигантских размеров коры головного мозга) имеет как бы две стороны или два этажа — складки материи и сгибы в душе. Тяжелые массы материальных складок громоздятся под действием внешних сил, а затем организуются в стройную систему согласно внутренним изгибам души. Декарт использовал совершенно иной принцип монтажа: для него материя характеризуется прямолинейной протяженностью, а душа — "прямизной", выправляющей любые душевные "наклонности".
— исчезать. Ему трудно узнать, что ему все еще принадлежит «по определению», что — лишь наполовину или временно, будь это вещь или мелкое животное, — если только он сам принадлежит кому-нибудь, но кому же? Ему необходим некий особый крючок, своего рода узелок, чтобы отсортировать пожитки, но у него уже нет даже этого крючка. Эти аватары принадлежности или имущества имеют большое философское значение. Это похоже на то, как если бы философия погрузилась в новую стихию, заменив элемент «Быть» на элемент «Иметь». Разумеется, формула «иметь тело» не нова, но новое в том, чтобы довести анализ до видов, степеней, отношений и переменных обладания, превратив их в содержание или развитие понятия Бытия. Именно Габриэль Тард — и гораздо больше, нежели Гуссерль — в полной мере по-
18 Письмо к леди Мэшем, июнь 1704 (GPh, III, p. 356).
188 нял важность этой мутации и подверг сомнению неоправданный примат глагола «быть»: «Подлинным антонимом «я» является не «не-я», а «мое»; подлинным антонимом «бытия», т. е. «имеющего», является не «небытие», а, так сказать, «имеемое».19 Уже внутри монады Лейбниц представил «я имею разнообразные мысли» коррелятом к «я есмь мыслящий»: перцепции как включенные предикаты, т. е. как внутренние свойства, заменили атрибуты. Предикация пришла из сферы глагола «иметь», и ей предстояло разрешить апории глагола «быть» или атрибуции. С тем большим основанием телу как внешнему свойству предстояло ввести в обладание факторы инвертирования, переворачивания, неустойчивости, краткосрочности. Это новая сфера глагола «иметь», по существу, не ввела нас в спокойную стихию раз и навсегда должным образом определенных собственника и собственности. Через «иметь», через собственность упорядочиваются подвижные и неизменно перестраиваемые отношения монад между собой — как с точки зрения гармонии, где мы рассматриваем их «каждую к каждой», так и с точки зрения единства, где мы рассматриваем их как «одни и другие». Здесь тоже есть казуистика. В конечном счете, каждая монада в качестве собственности (или свойства) обладает не каким-то абстрактным атрибутом, будь то движение, эластичность или пластичность, но другими монадами, как клетка
— другими клетками, а атом — другими атомами. Сферу глагола «иметь» заполняют феномены порабощения, господства, присвоения; эта сфера всегда находится под какой-то властью (вот почему Ницше ощущал себя столь близким Лейбницу). Иметь или обладать означает «сгибать в значении покорять», * т. е. выражать нечто содержащееся «под чьей-нибудь
{19}
В своей важной статье «Монадология и социология» Габриэль Тард описывает эту замену «быть» на «иметь» как подлинный переворот в метафизике, проистекающий непосредственно из самих монад: Essais et melanges sociologiques, Maloine. Жан Миле прокомментировал эту тему и предложил назвать «эхологией» ** эту дисциплину, которая заменяет онтологию (Gabriel Tarde et la philosophie de l'histoire, Vrin, p. 167–170).
{189}
властью». Если барокко часто соотносили с капитализмом, то причина здесь в том, что оно связано с неким кризисом собственности, возникающим одновременно и с увеличением количества новых машин в социальном поле, и с открытием новых живых существ в организме. Принадлежность и собственность отсылают к господству. Моей монаде принадлежит некое специфическое тело, но лишь пока моя монада господствует над монадами, принадлежащими к частям моего тела. Выражение как знак соответствия выходит за собственные пределы по направлению к господству как знаку принадлежности; каждая монада выражает целый мир, а стало быть, это делают все монады, — но с точки зрения, связывающей каждую более тесно именно с теми из остальных, над которыми она господствует или которые господствуют над ней. Если некое тело принадлежит мне всегда, то происходит это потому, что его «уходящие» части заменяются другими, чьи монады, в свою очередь, попадают под господство моей (существует периодичность в обновлении частей, все в одно и то же время не «уходят»): получается, что тело подобно судну Тесея, которое афиняне все время ремонтировали.20 Но поскольку ни одна монада не содержит в себе прочих, господство так и оставалось бы смутным понятием, будучи не более чем номинальным определением, если бы Лейбницу не удалось определить его точно, через «субстанциальный узелок». Это странная связь, нечто вроде крючка, ярма, узла; это сложное отношение, содержащее переменные члены и один постоянный.
Постоянный член — это господствующая монада, поскольку ей свойственно или «назначено» узелковое отношение. Очевидно, это вызывает тем большее удивление, что в силу того, что переменными членами его являются остальные (а, значит, подвластные) монады, оно не может
быть предикатом, содержащимся в своем
{20}
«Новые опыты», II, гл. 27, §§ 4–6; и особенно — в переписке с Де Боссом.
{190}
субъекте. Вот почему это отношение мы назовем «субстанциальным», — ведь оно не предикат. Так как всякое отношение имеет некий субъект, господствующая монада действительно является субъектом «узелка», но еще и «субъектом примыкания», а не присущности или неотъемлемости.21 Для лейбницианства — как подчеркивало большинство комментаторов — это парадокс почти нестерпимый. В том, что отношения являются предикатами, никакого парадокса нет, если только мы понимаем, что такое предикат и чем он отличается от атрибута; да и предустановленная гармония не имплицирует никаких экстериорных отношений между монадами, но только отношения, упорядочиваемые изнутри. Зато этот парадокс покажется непреодолимым, как только мы вспомним внешнее обладание, т. е. отношение, в котором субъект действительно есть, но оно не является предикатом и не входит в собственный субъект. И вот что здесь обнаружил Лейбниц: монада как абсолютная интериорность, как интериорная плоскость с одной стороной, все же имеет
и еще одну сторону, или некий минимум внешнего, неукоснительным образом комплиментарную форму, находящуюся вне монады. Может быть, очевидное противоречие удастся разрешить при помощи топологии? Противоречие это, по существу, рассеивается, как только мы вспомним, что «односторонность» монады ради выполнения условия замкнутости имеет в виду «скрученность» мира, бесконечную складку, которая — по условию — может развертываться не иначе, как восстанавливая какую-то другую сторону, и не как экстериорную монаде, но как экстериорное или внешнее при ее собственной интериорности: это некая стенка, гибкая примыкающая мембрана,
равнообъемная внутреннему в монаде в целом.22 Это
{21}
Об этом различии в схоластических теориях «узелка», ср. Boehm, Le «vinculum substantiate» chez Leibniz, Vrin. А также письмо к Де Боссу от апреля 1715; «Это звено всегда будет связано с господствующей монадой».
{22}
Бюффон разработал парадоксальную идею, весьма близкую к «узелку»: «внутреннюю форму», навязывающую свое господство изменчивым органическим молекулам (Histoire des animaux), chap. III. А также ср. Canguilhem, Connaissance de la vie, Hachette, p. 63–67 и 215–217, об употреблении слова «монада» в естественной истории после Лейбница).
{191}
и есть «узелок», первичная не локализуемая связь, и она окаймляет абсолютно внутреннее.
Подвластные монады
Что же касается переменных членов, то это монады, входящие в отношение как «объекты», пусть даже на недолгое время. Они могут существовать и без отношения, как отношение — без них: отношение экстериорно переменным, а для постоянной оно является внешним.23 Оно оказывается тем более сложным, что включает в себя бесконечное множество переменных. Последние называются подвластными — и именно в той мере, в какой они вступают в отношение, связанное с господствующей или постоянной монадой. Когда они перестают находиться в этом отношении, они входят в какое-нибудь другое, в другой «узелок», связанный с другой господствующей монадой (если только не освобождаются от всех узелков). Чтобы оценить действие «узелка», мы должны четко различать два аспекта. Во-первых, он принимает свои переменные во множестве, «сообществами». Но не так, чтобы монады, попадающие под его господство, теряли индивидуальность «в себе» (это было бы чудом). «Узелок» даже предполагает эту индивидуальность, как и внутренние модификации и перцепции монад, но он ничего в них не меняет и от
{23}
Письмо к Де Боссу, май 1716: узелок «таков по природе, но не по сущности, поскольку для него требуются монады, но, по существу, он их не обволакивает, так как он может существовать и без них, а они — без него».
{192}
них не зависит. Он извлекает из них только некую «общую модификацию», т. е. Эхо, звучащее от всей их совокупности, когда они отражаются от «стенки».24 Как показали Ивон Белаваль и Кристиана Фремон, сам «узелок» и представляет собой «отражающую стенку», и он таков постольку, поскольку он — та форма внешнего, которая зависит от господствующей или постоянной монады; что же касается переменных монад, то это — «передатчики», а эхо — общая модификация множества.25 Именно в этом смысле узелок входит в отношения со своими переменными, используя эффект «толпы», а не в их индивидуальности: отсюда переход от оптики к акустике, или от индивидуального зеркала к совокупному эху, так как эффекты бормотания или «урчания» отсылают к этому новому акустическому регистру. Итак, «узелок» принимает монады «сообществами», а тем самым осуществляет инвертирование принадлежности. Пока монады рассматриваются в их индивидуальности, каждой монаде принадлежит неотделимое от нее тело: это верно для господствующей монады, но в равной степени и для всякой монады подвластной, которая, будучи индивидуально взятой, является, в свою очередь, господствующей, а, стало быть, обладает неким телом. Но когда подвластные монады «сообществами» попадают в «узелок», происходит обратное, тогда именно они и принадлежат бесконечному множеству неотделимых от них материальных частей. Эти монады и определяют специфичность таких частей вообще — и в двояком смысле: как гомогенность непрестанно сменяющихся частей и гетерогенность частей взаимно координирующихся. Словом, «узелок», будучи мембраной или стенкой, осуществляет
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Складка. Лейбниц и барокко"
Книги похожие на "Складка. Лейбниц и барокко" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Жиль Делёз - Складка. Лейбниц и барокко"
Отзывы читателей о книге "Складка. Лейбниц и барокко", комментарии и мнения людей о произведении.