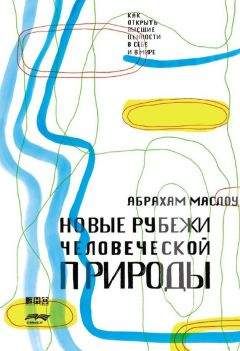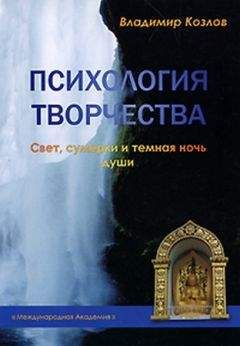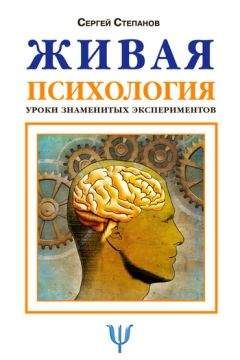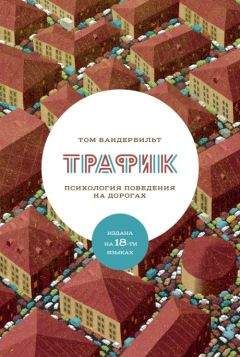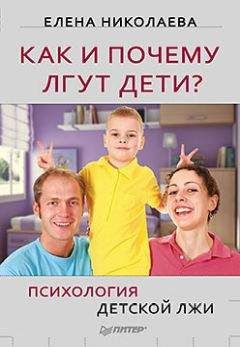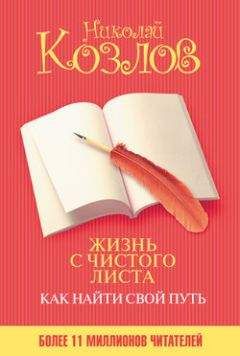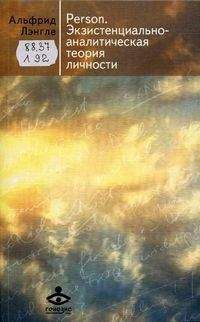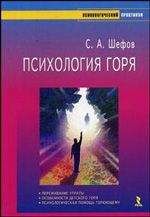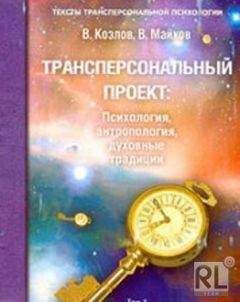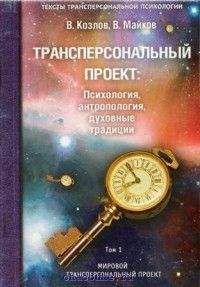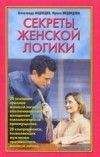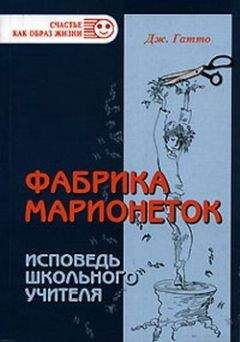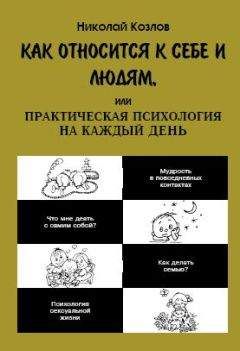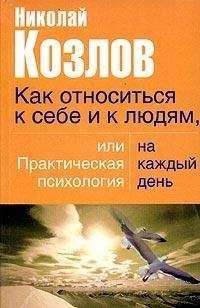Томас Сас - Фабрика безумия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Фабрика безумия"
Описание и краткое содержание "Фабрика безумия" читать бесплатно онлайн.
Чем была психиатрия до падения Берлинской стены по обе стороны от нее и какие мрачные корни в глубине веков она имела, какова тираническая психология негодяев, претендующих на священное звание врачей вчера и сегодня, как оправдывалось насилие в отношении «козлов отпущения» в эпоху развитого индустриального общества, как и почему больницы стали средством массового истребления и «успокоения» нежелательных его элементов, из какой извращенной логики исходили господа, лечившие половые «извращения», — обо всем этом в замечательной книге человека, по праву занимающего свое место в пантеоне борцов за освобождение человеческой природы рядом с Эрихом Фроммом и Гербертом Маркузе.
Книга рекомендована к прочтению психиатрами и их пациентами.
Личных прав, предоставленных подсудимому, не существует для безумного (подобно тому, как до самого недавнего времени их не было для несовершеннолетних). В соответствии с официальной версией он лишен их потому, что так ему самому легче получить лечение, в котором он нуждается. В результате это приводит к лишению его каких бы то ни было средств самозащиты. Подобно ведьме, обвиняемый в душевной болезни тоже не может нанимать или приглашать своих представителей. Если государство желает объявить его сумасшедшим, то его родственники, адвокаты и знакомые психиатры обычно не вмешиваются, а не то еще они сами окажутся объектами психиатрического внимания[148]. Не может человек, подозреваемый в душевной болезни, и сам выступать в свою защиту. Какие бы свидетельства собственного здравомыслия он ни выдвигал, все они будут теряться в облаке подозрения, которое нависло над ним. В то же самое время, хотя его свидетельство в пользу собственного здравомыслия будет отклонено как ненадежное, согласие «пациента» с тем, что душевное расстройство у него наличествует, будет принято как бесспорное доказательство в пользу безумия. Иными словами, точно так же, как обвиняемая в колдовстве не могла своими аргументами убедить судей в своей невиновности, так не может этого сделать и обвиняемый в душевной болезни. Все, что им остается, — признаться в ереси или душевной болезни. «Главным результатом нашего исследования, — пишет Шефф, изучавший работу городских судов по рассмотрению ходатайств о принудительной госпитализации, — стало следующее заключение: в трех из четырех городских судов гражданские процедуры по госпитализации и освидетельствовании душевнобольных не имели серьезных исследовательских целей и носили скорее церемониальный характер... Госпитализация и лечение представляются почти автоматически решенными процедурами, едва внимание суда было привлечено к пациенту»[149].
Хотя большинство психиатров и очень многие юристы возражают против такой интерпретации наших законов о душевной гигиене и настаивают на том, что подобные отклонения от законной процедуры, принятой в уголовном делопроизводстве, служат скорее интересам пациента, нежели интересам государства, очевидно, что именно эти самые методы делали инквизицию непобедимой, а сопротивление ей невозможным. «Право отвергать любые законы, которые сдерживали бы слишком свободное отправление процедур инквизиции, — пишет Ли, — было сходным образом присвоено [этим учреждением] по обе стороны Альп... Это сделало инквизицию фактически верховным властителем во всех землях, и принятой максимой закона стало то, что все установления, противоречащие свободному действию инквизиции, уничтожались, а те, кто поступал в соответствии с ними, подлежали наказанию»[150]. Трудно вообразить себе более красноречивое совпадение между общественной и юридической ролью инквизиции и соответствующей ролью современной институциональной психиатрии. Когда Ли утверждает, что, «пользуясь этой почти беспредельной властью, инквизиторы были практически свободны от какого-либо надзора и ответственности»[151], мы понимаем, что это утверждение вполне применимо и к современным институциональным психиатрам.
Основное сходство между работой инквизитора и современного психиатра, который должен определить, здоров ли индивид душевно, заключается в самой природе поставленной задачи. «Обязанность инквизитора,—утверждает Ли, — отличалась от обязанности рядового судьи тем, что сводилась к невыполнимой задаче по установлению тайных мыслей и воззрений заключенного. Внешние проявления имели для инквизитора ценность исключительно в качестве признаков веры, которые надлежало принять или отвергнуть в зависимости от того, считал ли он их существенными или иллюзорными». Преступление, за которое он должен был наказать, представляло собой чисто умозрительный шаг — деяния же, сколь бы они ни были преступны, оставались ему неподсудны»[152]. Если в этом описании мы заменим теологические термины психиатрическими, получится описание работы современного психопатолога.
Иными словами, инквизитора не касались открытые антиобщественные действия, поскольку этой проблемой занимались светские суды. Его интересовала ересь, представлявшая собой преступление против Бога и христианской религии, определяемая в силу этого в теологических терминах. Сходным образом институциональный психиатр не интересуется реальными антиобщественными действиями, поскольку они — проблема уголовных судов. Он заинтересован в душевной болезни, которая является отступлением от законов душевного здоровья и психиатрической профессии и, следовательно, определяется в медицинских терминах. Душевная болезнь — центральное понятие институциональной психиатрии, подобно тому как ересь — центральное понятие инквизиционной теологии[153].
То, что и ересь, и душевная болезнь — это преступления мысленные и с действиями не связанные, помогает объяснить те омерзительные меры, которые применялись для их обнаружения. «Не удивительно, — пишет Ли с редким для него сарказмом, — что [инквизитор] спешно избавился от тех ограничений установленной судебной процедуры, которые... сделали бы всю его работу тщетной»[154]. В результате «еретик, установленный или только подозреваемый, не имел никаких прав... не допускалось ни малейшего замешательства, если речь шла о применении каких бы то ни было средств для защиты и укрепления веры»[155].
Если мы подставим на место религиозных терминов психиатрические, утверждение Ли превратится в описание легального статуса душевнобольного пациента:
Душевнобольной, установленный или только подозреваемый, не имеет никаких прав... не допускается ни малейшего замешательства, если речь идет о применении каких бы то ни было средств, способных защитить его душевное здоровье и укрепить веру в психиатрическую медицину. «Характерная черта некоторых болезней, — пишет Фрэнсис Дж. Брэйслэнд, профессор клинической психиатрии в Йельском университете и бывший президент Американской психиатрической ассоциации, — состоит в том, что у людей нет осознания своей болезни. Иными словами, иногда необходимо защитить их на время от самих себя... Когда мужчина из Калифорнии привозит ко мне свою дочь, поскольку она вот-вот впадет в порок или навлечет на себя бесчестие тем или иным образом, он не ожидает от меня, что я свободно отпущу ее разгуливать по своему городу, допуская тем самым, чтобы произошло именно то, чего он опасается»[156].
Поскольку ересь не была ни общественным деянием, ни физиологическим состоянием, но состоянием разума, факт «колдовства» было бы невозможно установить, если бы исполнялась признанная судебная процедура. Спорная проблема доказательства была «разрешена» благодаря принятию того, что стало известно позднее как инквизиционный метод преследования, в просторечии называемый «охотой на ведьм». Вот как Ли описывает этот процесс:
Из трех форм действия в отношении преступлений — обвинения, доноса и инквизиционного преследования — последнее с неизбежностью превратилось из исключения в незыблемое правило, одновременно избавившись от любых ограничений, которые хоть в какой-то степени нейтрализовали скрытую в нем опасность. Если формальный обвинитель являлся в суд, инквизитор был обязан предупредить его об опасности talio (правового возмездия со стороны обвиняемого), которой он подвергался, объявляя о себе открыто. С общего согласия эта форма действия была отвергнута как „сутяжническая”, то есть как предоставляющая обвиняемому какие-то средства защиты... Донос был несколько более удобной формой обвинения, поскольку инквизитор действовал ex officio[157], но и он не был обычной практикой, так что инквизиционный процесс очень скоро стал единственным методом, который использовали на практике[158].
Хотя инквизиционный процесс существует уже более пяти столетий, лишь в XX веке он достиг своего окончательного воплощения. Фундаментальное различие между обвинительной и инквизиционной процедурами заключается в методах, используемых одним индивидом либо учреждением (часто государством) для того, чтобы заставить другого индивида (часто представителя какого-либо меньшинства) играть приниженную и унизительную социальную роль. Обыкновенный обвинительный процесс обеспечивает индивиду гарантии, выработанные для того, чтобы защитить его от ложного обвинения в преступлении; иными словами, сначала должны быть представлены доказательства того, что он участвовал в действиях, запрещенных законом. Инквизиционный процесс снимает с индивида эту защиту, наделяя обвинение неограниченной властью в навязывании обвиняемому именно той роли, которую необходимо ему приписать: например, роли врага народа или душевнобольного. В тоталитарных государствах применяются типично инквизиционные процедуры исполнения уголовного законодательства, но таковы законы и практики в области душевного здоровья и не тоталитарных государств. Во времена перехода от религиозных (инквизиционных) к медицинским (психиатрическим) мерам общественного контроля существовало промежуточное звено, заключавшееся в якобы терапевтическом применении власти короля как благодетельного деспота и правителя. Примером этого явления стало французское lettre de cachet. Эта переходная, королевская форма социального контроля была одновременно религиозной и светской, магической и научной. В той мере, в которой lettre de cachet является непосредственным историческим предшественником современного ходатайства о принудительной госпитализации, это явление требует здесь определенного исследования.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Фабрика безумия"
Книги похожие на "Фабрика безумия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Томас Сас - Фабрика безумия"
Отзывы читателей о книге "Фабрика безумия", комментарии и мнения людей о произведении.