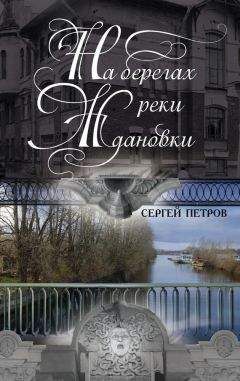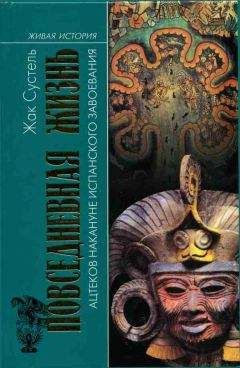Дмитрий Засосов - Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев"
Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев" читать бесплатно онлайн.
Авторы книги — юрист Д. А. Засосов и инженер-путеец В. И. Пызин — принадлежали к последнему поколению истинных петербуржцев. В их воспоминаниях о жизни, быте и нравах столичного города конца XIX — начала XX века нашел отражение взгляд на Петербург представителей демократической интеллигенции России. Авторы, одаренные наблюдательностью и чувством юмора, увлекательно рассказывают о жизни петербуржцев различных сословий предреволюционной поры.
Книгу дополняют обширные комментарии, которые содержат любопытные сведения из истории Петербурга, и многочисленные иллюстрации.
Часто бывали случаи, когда младенцев подкидывали — тайком оставляли в подъездах, перед дверьми квартир, в которых проживали бездетные супруги, в вагонах, на вокзалах и пр. Бывали случаи, когда совершенно посторонние люди брали таких младенцев на воспитание, усыновляли их.
Но чаще всего младенцев относили в полицию, а оттуда отправляли в воспитательный дом. Ввиду малого числа кормилиц и распространения инфекционных болезней в воспитательных домах смертность младенцев была ужасающая[249].
Ввиду переполненности воспитательных домов их администрация отдавала младенцев крестьянкам[250] близлежащих деревень за плату 3–4 рубля в месяц. Бедной крестьянской семье это был небольшой доход, но младенцам там жилось в большинстве случаев несладко.
Самое ужасное было в тех случаях, когда подкидыш попадал в руки аферисток, разного жулья, которые посредством этого ребенка выпрашивали деньги.
Почему же матери расставались со своим ребенком, зная, какая страшная участь ждет его в будущем? Надо понимать, что положение женщины, которая родила ребенка вне брака, будучи еще совершенно необеспеченной, становилось крайне тяжелым. Она мучилась от ложного стыда, часто ее выгоняли с работы, лишали крова, изгоняли из семьи. Имея на руках ребенка, она не могла найти себе места.
И вот мать, перенеся все муки и страдания, наконец решалась отнести свое дитя в воспитательный дом или подкинуть, оставив в пеленках свои слезы и записку: «Рожден тогда-то, крещен, имя такое-то».
Бывали и случаи, когда мать, доведенная до отчаяния, шла на детоубийство. Совершая это тяжкое преступление, она обрекала себя на муки совести до конца дней, не говоря уже о том, что остаток жизни в большинстве случаев омрачался отсидкой в каторжной тюрьме за детоубийство.
Очень распространены были аборты, которые производились часто разными бабками в ужасающих условиях, тайком, поскольку это преследовалось законом[251]. Нередко такие аборты заканчивались смертью матери или навсегда подрывали ее здоровье. Нельзя не заметить, что Петербург по числу внебрачных зачатий стоял на первом месте в России. (Это по официальным данным, а сколько подобных случаев не попало в статистику!)
Неудивительно поэтому, что в Петербурге было много сиротских домов, учрежденных еще Екатериной II. Обычно они находились при сиротских институтах, например при Николаевском сиротском институте. Был дом призрения для детей нижних почтовых служащих и пр.[252] Часто можно было видеть, как по Фонтанке вели бледненьких девочек, шедших чинно за руки парами, в белошвейную мастерскую — их готовили в белошвейки или кружевницы. Их облик резко отличался от благополучных детей прежде всего тем, что они были коротко стрижены, что не было принято модой. Все одинаково одеты в серые платьица на вырост и с какими-то необычными чепчиками на головах. В окно первого этажа мастерской можно было видеть их склоненные над коклюшками головы, что тогда было модно, — в мещанских домах повсюду на комодах и столиках лежали салфеточки, связанные на коклюшках. Мальчиков мы не встречали, но, наверно, и их обучали какому-нибудь мастерству[253].
* * *
В Петербурге, конечно, гораздо меньше, чем в провинции, но все же немало было всякого рода приживалок, прихлебателей и прочих тунеядцев в богатых семьях, как купеческих, так и дворянских. Вырабатывался особый тип приживалки — лицемерной, страшной сплетницы, угодливой до приторности, с ласковым голоском и злыми, завистливыми глазами.
Обычно это были бедные дальние родственники, примазавшиеся знакомые, а также «цветы запоздалые»[254] — кое-кто из разорившихся дворянских семей, а то попросту случайно встретившиеся люди, сумевшие втереться в зажиточную семью. Они не научились за свою жизнь делать что-нибудь полезное. Всех их объединяло одно — лень, нежелание по-настоящему работать. Большинство таких людей были все же женщины в возрасте. Спали они обычно на диване или сундуке в коридоре, носили то, что хозяева подарят, вышедшие из моды, надоевшие хозяйке вещи. Ели вместе с хозяевами или даже на кухне, в зависимости от своего происхождения и былого положения в обществе. От всякой работы они под благовидными предлогами уклонялись: то она была больна, то сегодня грех работать, она говеет, то праздник, то она торопится на кладбище помянуть мифическую родственницу. Страшными врагами таких приживалок была домашняя работящая прислуга, которая презирала их за тунеядство, доносы и сплетни, старалась чем-нибудь им досадить: налить спитого чаю, дать черствого пирога. Если приживалка была более высокого положения и пользовалась до некоторой степени уважением хозяев, то месть была уже другого порядка: например спрятать необходимую вещь, «забыть» вычистить ей обувь, прищемить ногу любимой собачонке и пр. Все это было очень мелко, но повторялось часто, а потому было больнее крупной неприятности.
Некоторые из них, получившие кое-какое образование, старались быть необходимыми и полезными в доме, учили в купеческой семье хозяев и их детей «хорошему тону» и другим премудростям высшего света. Они знали немного французский язык, бренчали на рояле, но научить языку или музыке не могли, поскольку знания их были поверхностными. Одевались такие особы с претензией, не в соответствии с обстановкой, надевали такие вещи, которые были приняты только в высшем обществе, но давно вышли из моды, остались у них от былых времен, какую-нибудь заношенную накидку с облезлым горностаем.
Но были и такие, которые довольно гармонично вписывались в жизненный уклад семьи, особенно дворянской, где было больше, чем в купеческой, терпимости и снисхождения. Им удавалось не утратить чувства собственного достоинства, удавалось найти контакт, с одной стороны, с прислугой, с другой стороны — с хозяевами. Обычно это с детства попавшие в чужую семью или принятые сиротами из милосердия. Мы знали одну убогую (она хромала), не очень умную, но удивительно тактичную особу, которая знала, когда при гостях ей можно остаться разливать чай в столовой, а когда лучше уступить свое место у самовара и незаметно уйти. Незаменима по своей доброте она была, если кто-нибудь заболевал: никто не умел так удобно поправить подушку больному, подать лекарство. Словом, стала наконец почти необходимым человеком в доме. Затерялась шаль — «надо спросить Ольгу Ивановну»; что положить для запаха в кулич — «знает Ольга Ивановна». «Ольга Ивановна, почитайте», — просят дети и потом с интересом наблюдают, как она читает и одновременно со страшной быстротой, не глядя, вяжет на спицах очередной носок, конечно, кому-нибудь в подарок. Такие особы были очень преданны своим благодетелям, и к ним относились с глубокой благодарностью и с уважением, как к своему человеку.
Были и мужчины, выбившиеся из трудовой жизни и находящиеся на положении прихлебателей. Они не жили у «благодетелей», а почти ежедневно приходили к ним пообедать, поужинать под разными предлогами — сообщить новость, передать хозяйке первые фиалки. Они были хорошо воспитаны, любезны, поношенное платье сидело на них элегантно — ведь в большинстве случаев это были промотавшиеся дворяне с пошатнувшимся здоровьем, которые тоже не умели или не хотели ничего делать.
Мы знали такого человека, пожилого, болезненного, с тонким, породистым лицом, который знал много языков, но ни одного хорошо, и который очень красиво, с небрежным изяществом умел курить чужие сигары и безошибочно узнавать их марку. Говорили, что он происходил из старинного дворянского рода, окончательно прогоревшего. Он был последним отпрыском этого рода. Жил он в убогой комнатенке у простой хозяйки, бывшей прислуги, которая презирала и третировала его. Носил он весьма поношенное платье и порыжевшую шляпу, но с умением. За глаза этого пожилого человека звали Данилушкой, проявляя в этом и снисходительность, и свое отношение свысока, как к человеку слабому.
Однажды ему подвезло в его незавидной жизни: один состоятельный человек собрался за границу, но языков не знал. Ему указали на Данилушку, который много раз бывал за границей и знал, куда поехать и что интересно и полезно посмотреть для просвещения этого любителя путешествовать. Само собой разумеется, что у Данилушки ни копейки за душой не было. Желавший «просветиться» одел Данилушку на свой счет, купил ему все необходимое для поездки. В течение двух месяцев возил и кормил за границей этого «чичероне»[255] и давал ему деньги на карманные расходы.
Они побывали в Германии, Бельгии, Франции, Италии и Австрии и благополучно вернулись домой — путешественник Н. с громадными впечатлениями, а Данилушка с несколько грустными воспоминаниями о прежней дворянской жизни. На него эта поездка так подействовала, всколыхнула все его прошлое, что он как-то загрустил, стал хиреть и вскоре умер, всеми оставленный. Хоронил его тот же любитель путешествий.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев"
Книги похожие на "Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Засосов - Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев"
Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев", комментарии и мнения людей о произведении.