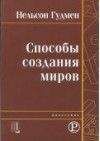Ганс Гадамер - Актуальность прекрасного
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Актуальность прекрасного"
Описание и краткое содержание "Актуальность прекрасного" читать бесплатно онлайн.
В сборнике представлены работы крупнейшего из философов XX века — Ганса Георга Гадамера (род. в 1900 г.). Гадамер — глава одного из ведущих направлений современного философствования — герменевтики. Его труды неоднократно переиздавались и переведены на многие европейские языки. Гадамер является также всемирно признанным авторитетом в области классической филологии и эстетики. Сборник отражает как общефилософскую, так и конкретно-научную стороны творчества Гадамера, включая его статьи о живописи, театре и литературе. Практически все работы, охватывающие период с 1943 по 1977 год, публикуются на русском языке впервые. Книга открывается Вступительным словом автора, написанным специально для данного издания.
Рассчитана на философов, искусствоведов, а также на всех читателей, интересующихся проблемами теории и истории культуры.
Похоже, здесь сходятся две вещи: наше историческое сознание и склонность современного человека, в том числе и художника, к рефлексии. Историческая осознанность, историческое сознание вовсе не должны связываться с сугубо научными или мировоззренческими представлениями. Достаточно обратиться к тому, что очевидно для всех, кто сталкивается с художественным явлением прошлого. И так естественно, что люди не осознают, что руководствуются при этом историческим сознанием. Костюм, сшитый в прошлом, они рассматривают как исторический костюм, но исторические сюжеты могут быть восприняты в различных одеяниях. Никто не удивляется, когда Альтдорфер в «Битве Александра» запросто облачает воинов в доспехи средневековых рыцарей и выстраивает их в «современные» боевые порядки, как будто воины Александра Македонского сокрушили персов именно в этих нарядах [331]. Это настолько очевидно для нашего исторического настроя, что я бы рискнул сказать: без такого настроя подлинность, то есть мастерство пластических решений, более раннего искусства, возможно, вообще не воспринималась бы. Ведь сегодня уже никого не удивит инаковость другого, разве того, кто не прошел школы историзма (а вряд ли такие еще найдутся) и едва ли способен постичь то органичное единство содержания и формы, которое и составляет сущность всякого истинно художественного творчества.
Историческое сознание не какая-то особая научно или мировоззренчески обусловленная методическая позиция, а способ настраивания чувств на духовность, с самого начала определяющий наше видение и наше восприятие искусства. С этим, вероятно, связано и то (и это тоже форма рефлексии), что мы вовсе не нуждаемся в том наивном узнавании, которое нам в очередной раз может предложить наш собственный мир в виде устоявшейся действительности. Поэтому мы и можем усваивать всю огромную традицию нашей собственной истории, а также постигать традиции и памятники совсем иных миров и культур, никак не определявших развитие западной истории, поскольку инаковость всего этого стала предметом нашей рефлексии. Право на собственное творческое решение современному художнику дает та высокая степень рефлексивности, которую мы все несем в себе. Но почему историческое сознание с присущей ему рефлексивностью выступает, притом столь решительно, с неизменной претензией на то, что все видимое находится здесь и обращено непосредственно к нам, как будто это мы сами? Ответить на все это и должен, очевидно, философ.
Итак, в качестве первого шага наших размышлений я выдвигаю следующую задачу: разработать понятия, необходимые для постановки этого вопроса. Понятийный инструментарий, с помощью которого мы хотим осилить обозначенную тему, я раскрою прежде всего через ситуацию в философской эстетике. Затем я покажу, что ведущую роль здесь будут играть обозначенные в подзаголовке работы три понятия: «возвращение к игре», «символ», то есть возможность узнавать самих себя, и, наконец, «праздник» как воплощение вновь обретенной связи всех со всеми.
Задача философии — находить общее в различном. Synoran eis hey eidos («учиться обобщать под эгидой единого») — такова, согласно Платону, задача философа-диалектика. Что может подсказать нам философская традиция для решения этой задачи или хотя бы для более ясного представления о том, что нам предстоит решить? А именно: как преодолеть чудовищный разрыв между европейской художественной традицией и идеалами тех, кто сегодня занят художественной деятельностью? Первый ориентир нам дает слово «искусство». Мы не должны недооценивать того, что может нам сообщить само слово. Слово аккумулирует в себе предшествующую мыслительную работу. Так и здесь слово «искусство» служит отправной точкой, с которой мы начинаем наш поиск. Человек мало-мальски исторически развитый знает, что оно уже почти двести лет несет в себе тот характерный отличительный смысл, который мы связываем с ним сегодня. Вполне естественно, что в XVIII веке, когда речь заходила об искусстве, к нему требовалось прибавить слово «изящное» — «изящное искусство». Однако наряду с этим существовала и гораздо более широкая область человеческого умения: практические искусства — искусства технические, ремесленные и промышленные. Поэтому мы и не находим в философской традиции понятия «искусство» в нашем смысле. Из трудов древних греков, основоположников западноевропейской мыслительной традиции, мы можем узнать, что искусство охватывается понятием того, что Аристотель называл poiëticë epistëmë, то есть знанием и умением изготовления [332]. Общим в изготовлении ремесленника и творчестве художника, отличающим их знание от теоретического знания или же знания в области политики, является отделение произведения от породившей его деятельности. В этом сущность изготовления. Это нужно помнить, если мы хотим понять и осознать границы той критики произведения, которую современные модернисты обрушивают на традиционное искусство и бюргерское потребление культуры, связанное с ним[333]. Тем самым проясняется природа произведения. И это явно общая черта. Произведение как интенциональный ориентир слаженного трудового усилия тогда только станет собственно произведением, когда освободится от уз производящего делания. Произведение, по определению, предназначено для использования [334]. Платон старательно подчеркивал, что знание и умение делать подчинены использованию и зависят от знания того, кто будет изделием пользоваться. Мореход предписывает корабельщику, что строить. Это старый платоновский пример. Понятие произведения указывает на сферу общего употребления и тем самым на общее для всех понимание, на коммуникацию внутри понимания. Теперь перед нами основной вопрос: как внутри этого всеобъемлющего понятия продуцирующего знания отличить «искусство» от практических искусств? Ответ, который дает античность и который до сих пор побуждает нас к размышлению, предполагает, что речь здесь идет об имитационной деятельности, о подражании. Последнее рассматривается в пределах всего физического мира — природы. «Искусство» возможно потому, что природа не исчерпывает всех возможностей изобразительной деятельности, оставляя лакуны для формотворчества человеческого духа. То, что мы называем «искусством», таит в себе немало загадочности в сравнении со всеобщей деятельностью формотворчества, поскольку «произведение» искусства не является в действительности тем, что оно изображает, — оно всего лишь имитирует. С этим связано множество очень непростых философских проблем, и прежде всего проблема существования видимости. Что означает то, что здесь не создается действительное, но создается лишь нечто, использование которого не связано с реальной пользой, так как оно осуществляется, собственно, в созерцательном сосредоточении на видимость? У нас еще будет возможность поговорить об этом. Но уже и сейчас ясно, что от греков нам нечего ждать прямой помощи, так как то, что мы называем «искусством», они в лучшем случае рассматривали как своего рода подражание природе. Это подражание, правда, не имело ничего общего с натуралистическими или псевдореалистическими заблуждениями со-» временной теории искусства. Это может подтвердить известная цитата из «Поэтики» Аристотеля, где он говорит: «Поэзия более философична, чем история [335]. В то время как история только описывает нечто происходившее, акцентируя то, «как» это происходило, поэзия передает нам, как это могло быть. В человеческих поступках и страстях она учит видеть всеобщее. А поскольку всеобщее, конечно же, является задачей философии, то искусство, когда оно подразумевает всеобщее, философичнее, чем история. Это первое указание, которое нам даст античное наследие.
Еще более важное указание, выводящее нас за пределы современной эстетики, мы извлекаем из второй части наших размышлений, связанных со словом «искусство». Под искусством подразумевается «прекрасное искусство». Но что такое «прекрасное»?
Сегодня понятие прекрасного используется в самых различных значениях, хотя в нем и сохраняется нечто от старого, изначального смысла греческого слова calon. В определенной ситуации с понятием прекрасного мы связываем то, что освящено традицией, признано в обществе, или же нечто в этом роде. Другими словами — то, чем можно любоваться и что ка это было рассчитано. В нашей языковой памяти продолжает жить выражение «прекрасная нравственность», с помощью которого в немецком издеализме (Шиллер, Гегель) характеризовалась греческая государственность и греческие нравы, противостоящие механическому бездушию современной государственной машины. Это выражение нельзя понимать буквально. Оно означает не то, что нравственность пошла навстречу помпезности и декоративному великолепию, а лишь то, что она представлена и присутствует во всех формах совместной жизни, пронизывает все и таким образом позволяет человеку в его собственном мире обнаруживать самого себя. И для нас это определение «прекрасного» как пользующегося всеобщим признанием и одобрением еще остается убедительным. Естественно, что с точки зрения нашего понимания прекрасного нельзя спросить, почему нечто нравится. Прекрасное является своего рода самоопределением, излучающим радость самовыражения, не связанным ни с пользой, ни с целесообразностью. Пожалуй, достаточно о «прекрасном».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Актуальность прекрасного"
Книги похожие на "Актуальность прекрасного" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ганс Гадамер - Актуальность прекрасного"
Отзывы читателей о книге "Актуальность прекрасного", комментарии и мнения людей о произведении.