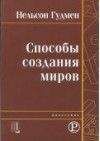Ганс Гадамер - Актуальность прекрасного
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Актуальность прекрасного"
Описание и краткое содержание "Актуальность прекрасного" читать бесплатно онлайн.
В сборнике представлены работы крупнейшего из философов XX века — Ганса Георга Гадамера (род. в 1900 г.). Гадамер — глава одного из ведущих направлений современного философствования — герменевтики. Его труды неоднократно переиздавались и переведены на многие европейские языки. Гадамер является также всемирно признанным авторитетом в области классической филологии и эстетики. Сборник отражает как общефилософскую, так и конкретно-научную стороны творчества Гадамера, включая его статьи о живописи, театре и литературе. Практически все работы, охватывающие период с 1943 по 1977 год, публикуются на русском языке впервые. Книга открывается Вступительным словом автора, написанным специально для данного издания.
Рассчитана на философов, искусствоведов, а также на всех читателей, интересующихся проблемами теории и истории культуры.
Надо сказать, что новый подход в «Бытии и времени» Хайдеггера, не был, разумеется, простым воспроизведением
немецкого идеализма с его спиритуалистической метафизикой. Разуметь свое бытие (и разбираться в нем) для человеческого здесь-бытия — отнюдь не то же самое, что знать себя для гегелевского абсолютного духа. Здесь-бытие не само по себе набрасывает само себя, а, напротив, в своем самопонимании постигает то, что оно не господин над самим собой и своим здесь-бытием, но что оно обретает себя среди сущего и обязано принять себя таким, каким себя обрело. Оно, здесь-бытие, есть такое набрасывание, которое заведомо уже брошено. В одном из самых блестящих феноменологических разборов, какие содержатся в «Бытии и времени», Хайдеггер анализирует этот пограничный опыт экзистенции, которая уже обретает себя среди сущего, — такой обретаемости, настроению Хайдеггер противопоставил подлинное раскрытие бытия-в-мире. Но такая обретаемость, очевидно, представляет самый крайний предел, до которого вообще способно было доходить историческое самопонимание человеческого здесь-бытия. От такого герменевтического пограничного понятия (обретаемости, настроения) не ведет путь к понятию типа «земля». Какое же основание для введения этого понятия? Как оправдать и подтвердить его? То наиболее важное, что открылось в статье Хайдеггера «Исток художественного творения», и заключалось в том, что «земля» есть непременное определение бытия художественного творения.
Правда, для того чтобы понять все принципиальное значение вопроса о сущности художественного творения в его взаимосвязи с фундаментальными вопшсами философии, необходимо разглядеть те предрассудки[110], какие заключены в понятии философской эстетики. Надо преодолеть понятие самой эстетики. Как известно, философская эстетика — самая молодая из философских дисциплин. Лишь в XVIII веке, путем целенаправленного ограничения рационалистических принципов Просвещения, удалось утвердить самостоятельные права чувственного познания и тем самым заявить об относительной независимости суждений вкуса от рассудка с его понятиями. И само наименование этой дисциплины, и ее самостоятельность в пределах философской системы — все это берет начало с Александра Баум- гартена. После него Кант в своей третьей «критике» — «Критике способности суждения» — упрочил значение эстетической проблемы для философской системы. В субъективной всеобщности эстетического суждения вкуса он обнаружил убедительные права эстетической способности суждения по отношению к рассудку и морали[111]. Как и «гений» художника, вкус зрителя, созерцателя нельзя понимать лишь как применение понятий, норм и правил. Прекрасное не отличается такими свойствами, которые оставалось бы лишь распознать в предмете, — оно должно быть засвидетельствовано субъективным моментом, а именно возрастанием чувства жизни в гармоническом соответствии способности воображения и рассудка. Перед лицом прекрасного в природе и искусстве оживает вся целокупность наших духовных сил, их вольная игра. Суждение вкуса — это не познание, однако оно и не произвольно. В суждении вкуса заключена всеобщность, на которой и основывается автономность эстетической сферы. Нужно признать, что подобное оправдание автономности искусства в сравнении со свойственной Просвещению слепой верой в правило и мораль было великим достижением. Прежде всего достижением в пределах немецкого развития, которое как раз в те годы достигло такой точки, в которой начала формироваться— словно эстетическое государство — классическая эпоха немецкой литературы с центром в Веймаре. Все такие устремления и обрели свое философское оправдание в философии Канта.
С другой же стороны, эстетика была основана теперь на субъективности душевных сил, а это знаменовало начало опасного процесса, ведущего к субъективизму. Для самого Канта определяющей все еще оставалась таинственная гармония прекрасной природы и субъективности субъекта. И творческий гений, возвышающийся над правилами и осуществляющий чудо произведения искусства, понимался Кантом как любимец природы. Это в целом предполагало, что порядок природы — а его конечным фундаментом служила теологическая идея сотворения мира — по-прежнему сохранял свою несомненную значимость. Но по мере того как такая плоскость рассмотрения исчезала, субъективный фундамент, на котором стояла эстетика, должен был привести к крайнему субъективизму, развивавшему учение о гении, не ведающем правила. Если искусство уже не возводится к всеобъемлющему целому порядка бытия, то оно начинает противопоставляться действительности, ее грубой прозе как просветляющая, идеализирующая поэтическая сила, которой, в ее эстетическом царстве, только и удается примирить идею и действительность. Такова идеалистическая эстетика — она заявляет о себе у Шиллера и достигает своего завершения в грандиозной эстетике Гегеля. И здесь теория произведения искусства все еще подчиняется всеобщей онтологической мере. Пока произведению искусства удается примирить конечное и бесконечное, оно остается залогом высшей истины, которую в конечном счете должна сформулировать философия. Подобно тому как в глазах представителей этого философского идеализма природа не просто предмет исчисляющей науки Нового времени, но проявление великой творческой потенции, достигающей завершения в осознающем себя духе, так и произведение искусства в глазах этих мыслителей — это объективация духа, не его достигшее завершения понятие о самом себе, но его явление, которое соответствует такому способу созерцать мир. Искусство — это в буквальном смысле слова миро-созерцание.
Если теперь постараться определить ту точку, в которой Хайдеггер начинает размышлять о сущности художественного творения, необходимо уяснить себе, что на эстетику идеализма, придававшего исключительное значение произведению искусства как средству непонятийного понимания абсолютной истины, давно уже наслоилась философия неокантианства. Это господствовавшее некогда философское направление воспроизвело кантовское обоснование научного познания, однако осталось чуждым той метафизической плоскости теологического порядка бытия, какая лежала в основе кантовского описания эстетической способности суждения. Таким образом, получалось, что неокантианское осмысление эстетических проблем несет на себе своеобразный груз предрассудков. Это ясно отражается в том, как вводит Хайдеггер свою тему. Все изложение начинается с того, что он разграничивает художественное творение и вещь. Считать, что произведение искусства — это вещь, которая, однако, сверх того, означает еще и нечто иное (будучи символом, указывает на что-то, будучи аллегорией, говорит о чем-то ином), значит, описывая бытие произведения искусства, следовать такой онтологической модели, которая задана научным познанием и его преимущественным положением в* мышлении. Тогда то, что, собственно, есть, — это вещи, факты, все данное чувствам; естествознание, изучая все это, и ведет к объективному познанию. В таком случае ценность и значение всего подобного (вещей, «данностей») лишь субъективны, это лишь дополнительные формы постижения всего этого, не относящиеся ни к самой данности, ни к той объективной истине, к которой можно прийти на ее основе. Значение и ценность чего-либо предполагают нечто объективное, что и будет носителем ценности. Для эстетики отсюда следует тот вывод, что в первом своем рассмотрении произведение искусства отличается вещностью — вещность есть его база, на которой в качестве надстройки возводится собственно эстетическое строение. Даже Николай Гартман продолжал описывать структуру эстетического предмета именно так[112].
Хайдеггер исходит из такой онтологической предпосылки и спрашивает о вещности вещи. Он выделяет в традиции три способа постижения вещи: вещь — носитель свойств, вещь — единство многообразных ощущений, вещь — сформованное вещество. Третий способ постижения из всех, кажется, наиболее разумеется сам собою, потому что следует модели изготовления вещи, которой надлежит служить нашим целям. Такие вещи Хайдеггер называет «Zeug» (то есть орудием, материей, некоторой «дельностью»). Итак, если исходить из избранной предпосылки, то вещи вообще выступают как некоторые «изготовления», то есть творения бога, если смотреть со стороны теологической, или, если смотреть со стороны человеческой, как некие «дельности», утратившие свою дельность, годность. Вещи — это «просто» вещи, они существуют безотносительно к тому, служат ли они для какой-либо надобности. Хайдеггер же показывает, что такое понятие наличествования отвечает методам современной науки (которая фиксирует и рассчитывает, исчисляет сущее), но не позволяет нам ни мыслить вещность вещи, ни мыслить дельность дельного. Поэтому для того, чтобы увидеть дельность, он прибегает к помощи искусства, к картине Ван Гога, изображающей крестьянские башмаки. На этой картине становится зрима сама «дельность», то есть не какое-либо сущее, которое можно использовать для каких-нибудь целей, но · нечто такое, само бытие чего состоит в том, чтобы служить тому, кому эти башмаки принадлежат. В творении художника выступает наружу и впечатляюще изображается не случайная пара крестьянских башмаков, а истинная сущность «дельности», то есть то, что они суть. Получается, что здесь создание искусства производит на свет истину о сущем. И такой выход наружу истины мыслим, лишь на основе творения, но никоим образом не на основе его вещной базы./
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Актуальность прекрасного"
Книги похожие на "Актуальность прекрасного" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ганс Гадамер - Актуальность прекрасного"
Отзывы читателей о книге "Актуальность прекрасного", комментарии и мнения людей о произведении.