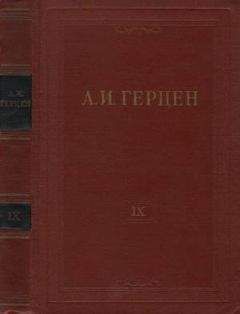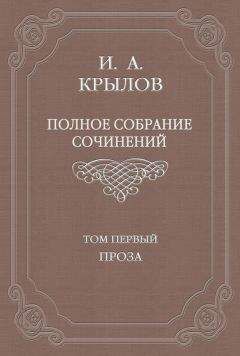Михаил Салтыков-Щедрин - Том 17. Пошехонская старина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 17. Пошехонская старина"
Описание и краткое содержание "Том 17. Пошехонская старина" читать бесплатно онлайн.
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
«Пошехонская старина» — последнее произведение Салтыкова. Им закончился творческий и жизненный путь писателя. В отличие от других его вещей, оно посвящено не злободневной современности, а прошлому — жизни помещичьей семьи в усадьбе при крепостном праве. По своему материалу «Пошехонская старина» во многом восходит к воспоминаниям Салтыкова о своем детстве, прошедшем в родовом гнезде, в самый разгар крепостного права. Отсюда не только художественное, но также историческое и биографическое значение «хроники», хотя она и не является ни автобиографией, ни мемуарами писателя.
Двоегласие приводило за собой недостаток устойчивости. Бурмакин увлекался, но увлечения его требовали руководительства. При том же, не имея под собой реальной почвы, они были устремлены исключительно к отвлеченностям. Истина, красота, добро — вот цели, к которым тяготели лучшие люди того времени, и за отсутствием жизненных интересов искали осуществления их в искусстве. Жизнь представляла собой низменность, искусство — святыню, то есть совсем наоборот тому, что требовала настоятельнейшая злоба дня. Так называемая «польза» тоже была отодвинута в разряд низменности. Музыка, литература, театр — вот что стояло на первом плане и служило предметом страстных споров. Всем памятны споры о Мочалове, Каратыгине, Щепкине, Сосницком, каждый жест которых порождал целую массу горячих комментариев. Этого мало: даже в балете усматривали глашатая добра, истины и красоты. Имена Санковской и Герино̀ раздавались во всех кофейных, на всех дружеских беседах. Это были не просто танцовщик и танцовщица, а пластические носители какого-то глубокого слова, заставлявшие по произволению радоваться или скорбеть.
Одним из любимейших выражений того времени было «святая простота». В нем заключалось нечто непререкаемое, и при произнесении его оставалось только преклониться. Но употребляли его без разбора и потому нередко смешивали с глупостью, грубостью и невежеством. Это уж было заблуждение, которое грозило последствиями очень сомнительного свойства. А ежели при этом вспомнить, что рядом с этими второстепенными формулами существовала еще одна, гласившая, что существующее уже по тому одному разумно, что оно существует, то представлялось возможным дойти до таких оправданий и примирений, откуда недалеко и до совершенной путаницы понятий.
[Я охотно допускаю, что в то горячее и страстное время самые оправдания не носили изменнического характера, но ведь и самое лучшее время чревато будущим, а будущее, подготовленное всякого рода сделками, поклонениями, уже готовило исподтишка предателей.]
Крестьянство задыхалось под игом рабства — зато оно было sancta simplicitas; чиновничество погрязло в взяточничестве, но и это было своего рода sancta simplicitas; невежество, мрак, распущенность нравов, жестокость господствовали всюду, но они представляли собою не ответственное что-либо, а одну из форм sancta simplicitas. Положим, что ради этих разнообразных форм простоты тяжело было жить, но поводов для привлечения к ответственности не существовало. [Сложилась формула: существующее разумно уже по тому одному, что оно существует, но забывалась другая формула: все идет к лучшему в наилучшем из миров. Пользовались излюбленной формулой искренно, не подозревая, что в ней кроются семена измены.]
Даже толки о народе и народности, о которых я упомянул выше, носили трансцендентальный характер. Накроили формул, из которых одни относились к народу горячо и сочувственно, а другие были просто-напросто гнусны, — и спорили. В диалектике, в умении поставить вопрос заключалось все дело, а так как всякий зараньше считал его решенным в свою пользу, то и в печати особенно явственных результатов не оказывалось.
Непреклонные идеалисты довольствовались тем, что у них бывали сладкие минуты в жизни. Мысли горели, сердца учащенно бились, все существо до краев наполнялось блаженством. Спасибо и за это. Бывают сермяжные эпохи, когда душа жаждет, чтоб хоть шепотом кто-нибудь произнес sursum corda, — и не дождется, а тогда, по крайней мере, хоть в этом напоминании недостатка не было. Могла ли удовлетвориться жизнь одним этим голословным напоминанием — это иной вопрос, но для отдельных личностей оно представляло питание вполне достаточное и исчерпывало всю жизнедеятельность.
Итак, Бурмакин заперся в родном гнезде и нимало не роптал на свое одиночество. Он много читал, вел деятельную переписку с друзьями и терпеливо выжидал тех двух-трех месяцев, в которые положил переезжать на житье в Москву. Хотел было перевести крестьян с барщины на оброк, но при первом отпоре со стороны старого Власа, доказывавшего невыгодность этого предприятия, не выстоял и махнул на все рукой.
Перхунов и Метальников*
Первый был либерал, второй — консерватор. Разумеется, применительно к понятиям того времени. Кличек этих, впрочем, [еще] не существовало, потому что время было [уж очень] простое. Об общественном мнении и в помине не было, а тем менее о какой-либо сословной или партийной розни. Тем не менее, хотя все вообще жили попросту, как бог велит, тяготея к одному и тому же центру тяжести и питаясь соками одной и той же почвы крепостничества. Но там и сям в общей массе все-таки выделялись, с одной стороны, такие личности, которые шумаркали, фордыбачили и зубоскалили, а с другой — такие, которые, упершись лбом в стену, «делали свое дело». Первых собратья не одобряли и отчасти побаивались, а власть имущие — от времени до времени грозили им указательным перстом и делали внушения. [Их-то я и называю либералами.] Вторых и собратья и начальство считали людьми солидными.
И простое было время, да и темное. Не только в захолустья ничто ниоткуда не проникало, да и повыше зги было не видать. Правительственным распоряжениям было присвоено наименование канцелярской тайны, и сведения об них появлялись в газетах в виде известий о целодневном звоне с Ивановской и иных колоколен; самое правительство называлось начальством. Предполагалось, что у всех своего дела по горло и что вне этого, так сказать, профессионального дела никаких других жизненных интересов не существует. Был, впрочем, один интерес — это периодически возобновлявшиеся ожидания рекрутских наборов. Всякую осень вопрос этот волновал и помещичью и крестьянскую среду, в особенности в те годы, когда на небе появлялась комета или иное знамение в этом роде. Будет ли манифест и по скольку с тысячи? — тревожно спрашивали себя обыватели, но до самой минуты распубликования манифеста все-таки ничего угадать не могли.
Естественно, что ежели при таких условиях и возможна была «критика», то она суждена была замыкаться в самом ограниченном кругу. Не правительственные действия служили предметом ее, а частные распоряжения местных чиновников, которые зависели от выборов и, стало быть, поневоле вынуждены бывали выслушивать всякого рода злословие. Собственно говоря, это и было именно только злословие, шутовство, подчас назойливое и почти всегда далеко не умное. Тем не менее даже такого рода «критике» люди основательные и солидные (по-нынешнему «консерваторы») не могли дать отпора, потому что они и сами не чувствовали под собой реальной почвы, а жили [и действовали], «как все прочие живут». Следовательно, и у них не было ничего такого, что напоминало бы о личной инициативе и внушало бы потребность отстаивать и оберегать. Словом сказать, ни критиканы, ни солидные люди не могли достоверным образом объяснить, почему такие-то действия представляются основательными и целесообразными, а такие-то — легкомысленными и вредными. И почему вся эта разношерстная масса канцелярского многописания, которая загромождала тогдашние присутственные места, носила наименование рапортов, предписаний, отношений и проч., а не представлялась случайной пробой пера, какою она была на деле.
И Перхунов (Григорий Александрыч) и Метальников (Тарас Егорыч) принадлежали к числу небогатых помещиков. У первого считалось в Словущенском около сотни душ; усадьба второго, приблизительно таких же размеров, отстояла верстах в шести от перхуновской, но владелец редко наезжал в нее, так как, по должности исправника, почти постоянно жил в городе.
Братья Урванцовы*
Старик Захар Антоныч Урванцов не принадлежал к числу аборигенов нашего захолустья. Он приехал откуда-то издалека, женился на одной из небогатых помещиц Прасковье Федоровне Улыбиной, кроткими мерами перевел на свое имя ее имение и затем, проводив жену на погост, барином зажил в собственной усадьбе, сельце Вялицине.
Это был человек озорной в полном смысле этого слова. В старину, по захолустьям, такие типы встречались довольно часто. И умственные и общественные интересы отсутствовали; домашний обиход сам собою сложился в таких рамках, что почти не требовал личного вмешательства; бесконечная праздность плыла и охватывала со всех сторон, не допуская внедриться даже самым тощим зачаткам внутреннего содержания, которое могло бы осмыслить жизнь. При таких условиях для природы мало-мальски подвижной оставалось одно убежище: растрачивать душевные силы по мелочам, на всякого рода низменные затеи, которыми так тороваты невежество и умственная неразвитость.
Проказливость старого Урванцова была до того назойлива, что даже наше неприхотливое захолустье невзлюбило его. Одиноко прозябал он в своей берлоге, почти не принимая участия в общем раздолье, которому предавались по зимам соседи. Отчуждение это, впрочем, не особенно огорчало бы его — он и дома находил достаточно пищи для озорства, если б недостаточность матерьяльных средств не напоминала, что общение с людьми составляет одно из тех неизбежных жизненных условий, ввиду которых должна смириться самая беззаветная озорливость. Прежде всего, как ни мало требователен был Урванцов, но и у него, как у прочих, сложились известные прихоти и привычки, на удовлетворение которых требовались деньги, а крохотное имение (всего с небольшим пятьдесят душ), безалаберно управляемое, давало их мало. Хорошее подспорье в этом смысле могла бы доставить служба по выборам, но его никуда не выбирали, хотя он каждое трехлетие ездил в губернский город и аккуратно ставил свою кандидатуру на должность исправника.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 17. Пошехонская старина"
Книги похожие на "Том 17. Пошехонская старина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Салтыков-Щедрин - Том 17. Пошехонская старина"
Отзывы читателей о книге "Том 17. Пошехонская старина", комментарии и мнения людей о произведении.