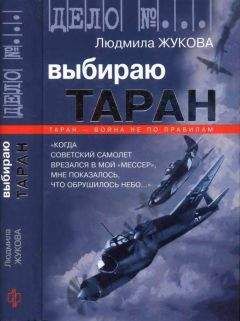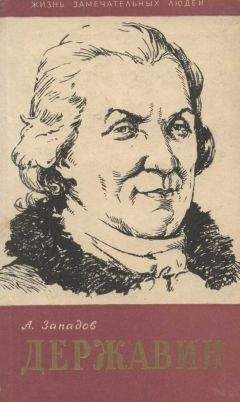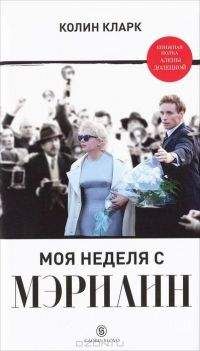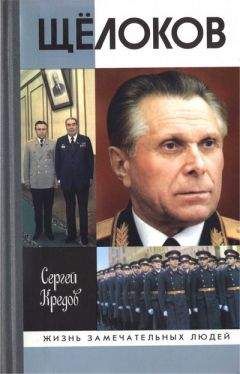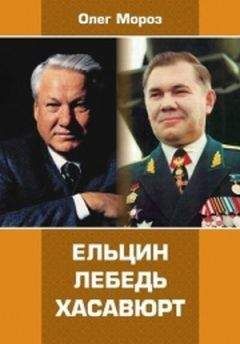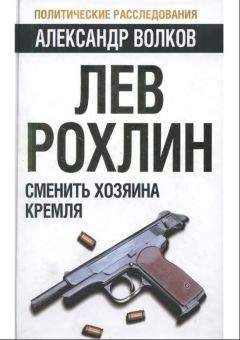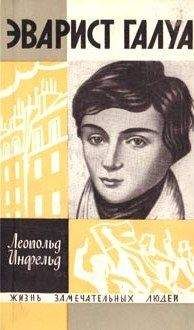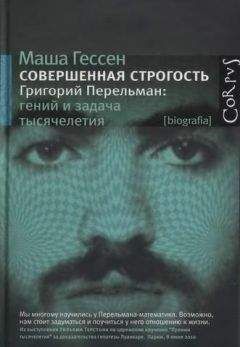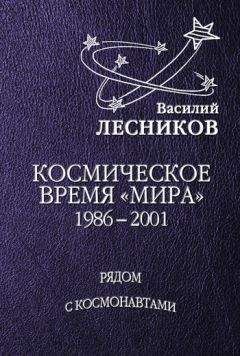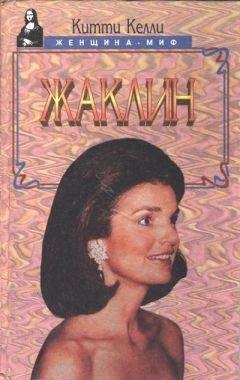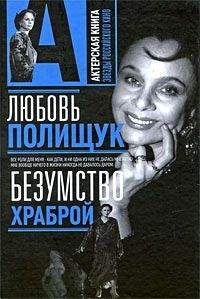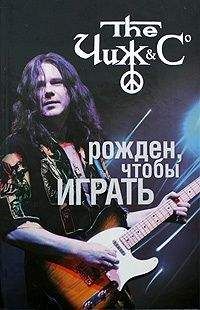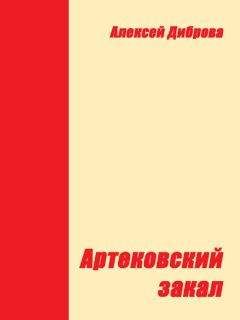Александр Волков - Опасная профессия
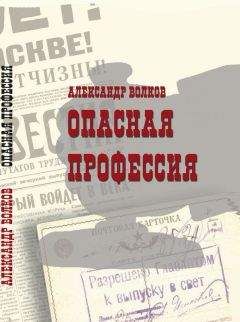
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Опасная профессия"
Описание и краткое содержание "Опасная профессия" читать бесплатно онлайн.
Журналист, работающий за рубежом, получает предложение о высокой должности в Москве, а вскоре и решение о назначении на эту должность. Но проходит всего неделя, которой оказалось даже не¬достаточно, чтобы собраться к отъезду, и приходит новое сообщение: решение отозвано. При этом ему запрещают предпринимать что-либо для выяснения причин такого неожиданного поворота событий. Еще через некоторое время он получает вроде бы поздравительную открытку, в которой, однако, содержится только странный текст, на¬писанный печатными буквами: «Держись за сердце, Саша!». И ника¬кой подписи. Герой книги, работавший до того на Алтае в годы освоения целины, затем в ведущих центральных газетах, пытаясь понять, кто и почему мог воспрепятствовать его карьере, да еще повлиять на решение высших партийно-государственных инстанций, начинает вспоминать всю свою жизнь в журналистике. А она была полна конфликтов, в том числе с этими высшими инстанциями, высшими политическими деятелями. В ходе воспоминаний автор рассказывает о многих известных людях, о коллегах-газетчиках, о тех самых влиятельных политиках, а вместе с тем — о нравах своего времени в журналистике и обществе. Это не выдуманная история. Автор книги Александр Волков, выпускник Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) университета просто повествует о событиях, в центре которых оказывался. При этом он считает свою книгу экспериментальной в смысле ее своеобразного построения.
Подольше других задержался в «Правде» Черниченко. Но в конечном итоге, когда я был уже в Праге, он тоже был вынужден уйти, хлопнув дверью. Позже в связи с его выступлениями в печати, в частности предрекавшими крах «Ростсельмаша» с его комбайном «Дон», секретарь ЦК КПСС Зимянин обвинит его в «очернительстве» и скажет, что у него вот и фамилия такая — Черниченко, от слова чернить. Хорошо, что Михаил Васильевич острил таким образом еще до того, как Генеральным секретарем стал Черненко.
Так приканчивали реформу, чинили своего рода гражданские казни над людьми, которые были ее сторонниками, ее носителями, и конечно, не только в среде журналистов и ученых. Я рассказываю лишь о близких мне людях.
Как-то, уже в начале перестройки, я прочел статью, автор которой — новый главный редактор «Правды» Афанасьев наступил нам на больную мозоль. Он писал примерно так: «Мы, как зачарованные, смотрели тогда на систему централизованного управления, сложившуюся в 30-х годах, но уже не отвечавшую реальным условиям деятельности». Читая это, я думал: при нас все же была другая «Правда». Вы то смотрели, как зачарованные, а другие писали о пороках системы и искали возможности ее изменения. Имею в виду не только правдистов — многие экономисты и журналисты ничем не были зачарованы, уже видели все прекрасно, говорили и писали об этом. Но как же «зачарованные» преследовали нас тогда за это! А сейчас вот «мы», мол, все вместе ответственны за прошлое. Нет, мы были разные — и журналисты, и коммунисты. В КПСС состояли и в «Правде» работали не одноликие оловянные солдатики, отлитые по единой форме. Жаль, что и теперь это не всем ясно.
Сейчас мы уже знаем о рынке много больше, чем тогда — о всех сложностях его организации, трудностях перехода к нему, особенно в стране, прозевавшей технологическую революцию, что сделало ее продукцию неконкурентоспособной на мировом рынке, о социальных проблемах… Но тогда нам все виделось в несколько идеальном свете: стоит только дать коллективам производителей — заводам, колхозам, любым артелям — большую самостоятельность в организации дела, выборе, что производить, в отношениях с партнерами, и рынок сам начнет отлаживать производство нужной продукции, в нужном количестве и нужного качества. Мы были недальновидны? Нас предостерегали правильно? Не думаю.
Уже в перестроечные времена, встречаясь на международных симпозиумах с учеными из числа левых, с теоретиками компартий и соцпартий, мы неизменно вовлекались в дискуссию на одну и ту же тему: мы говорили о необходимости рынка для своей страны, а они упрекали нас в преувеличении его пользы и недооценке регулирующей роли государства. И однажды, кажется, в беседе с французами, я попытался разобраться в причине такого повторяющегося взаимонепонимания. Причина, говорил я, проста: у вас уже есть рынок, а у нас его нет. Позвольте использовать такой образ: у вас есть бассейн, он заполнен водой, вы заботитесь о том, как регулировать ее обновление, намереваетесь построить вышку для прыжков, чтобы поглубже нырять, стремитесь создать прочие удобства для пловцов. У нас же вышка построена, разложены вокруг бассейна спасательные средства, запасены на случай даже капли от насморка, но… в бассейне нет воды. И мы кричим, убеждаем всех: нальем же скорее воду! Ведь мы уже прыгаем и вот-вот сломаем себе шею!
Мне кажется, что при всей наивности наших представлений о рынке, мы были правы, агитируя за него, потому что говорили о главном для успешного развития экономики. Ведь страна уже ходила в синяках от упражнений в прыжках без воды, и никакие капли от насморка не помогали. Идеология, прежде всего, мешала развитию экономики, и борьба шла по законам идеологии, а не экономической дискуссии.
Нас выбросили из печати, из общественной жизни на много лет. Пятнадцать потерянных лет, о которых говорил в свое время Михаил Сергеевич Горбачев, это очень много для страны, но 15 лет — еще больше для конкретных людей, для тех, кто вынужден был в самом расцвете сил и способностей уйти в сторону от главных направлений своей деятельности, от своей тематики, отказаться даже от своей профессии.
Лисичкин после нескольких лет работы в институте, где мы оба при внешнем благополучии не могли найти себя, поехал в Молдавию, три года изучал там опыт специализации и кооперации, писал докторскую диссертацию. Ему трижды «рубили» диссертационные работы, причем дважды уже после рассылки реферата — конечно, без каких-либо серьезных оснований, просто по звонку из отдела науки ЦК КПСС, от товарища Трапезникова и других подобных деятелей. Потом с трудом взяли в один московский институт на одну из низших должностей.
Черниченко ушел на телевидение, и хотя он там выдавал прекрасные передачи, сам как-то, иронизируя над собой, рассказал, что получил письмо от одного своего почитателя. Тот собирал много лет все его статьи и прислал их теперь с упреком: на телевидении у тебя и труба пониже, и дым пожиже. Да, для него ведь это тоже было сменой профессии.
Оба они, и Лисичкин, и Черниченко, как-то оправились во время перестройки, стали депутатами парламента, выступали на разных митингах, Черниченко возглавил крестьянскую партию, оба много печатались. Но ведь годы уже брали свое. Зародов до этого возрождения даже не дожил. Непросто сложилась и моя судьба…
Как я бальное платье жены от генералов спасал
В Праге мы довольно регулярно бывали на приемах у Президента Чехословакии Густава Гусака. По большим праздникам, а также и на специальных приемах по случаю Совещаний, обсуждавших работу журнала, на которые съезжались генеральные и просто секретари ЦК компартий из многих стран мира (в последний раз из 99). Женщины, как правило, готовили к такому приему новое бальное платье. Мая, конечно, тоже.
Как-то алтайская еще приятельница Лида Ершова прислала ей в подарок из Алжира роскошную алую крайку. Так называли эту ткань чехи, а по-нашему или по-французски, кажется, шифон. Короче — этакие роскошные шелковые кружева, которые при изготовлении платья нашивались на подкладку из непрозрачной ткани. Наряд получился впечатляющий, его Мая и надела на очередной прием.
На этих приемах ничего особенного не происходило. Вспомнилось, как внук Стася, тогда еще маленький, построил игрушечный домик и рассадил в нем какие-то фигурки. Я спросил, кто это такие. Он ответил: гости. А что они делают? Едят еду! — ответил Стася тоном удивленного нелепым вопросом. Что, мол, еще могут делать гости! Так вот, и на приемах приглашенные именно этим только и занимались. Наши бегали по разным залами, и, встречаясь, на ходу сообщали друг другу: вот в том-то зале есть угорь!
Еда начиналась тогда, когда в главный зал входил президент. Ему, кажется, аплодировали, и тут же все бросались к столам. На этот раз мы оказались как-то далековато от стола. Мая шагнула ближе, чтобы дотянуться до какого-то яства, но не сумела это сделать. Что-то ее сильно тормознуло. Я глянул, в чем дело, и увидел, что на подоле ее роскошного шифона стоит чья-то нога. Оказалось, что на нем устроился древний суховатый старичок в военном мундире. Он стоял, согнувшись ровно под прямым углом, как бывает у очень пожилых людей, когда их позвоночник ослабевает и не может уже держать корпус прямо. Многочисленные ордена и медали свисали с груди тоже под прямым углом к ней, то есть как бы стали дыбом по отношению к телу. Звезды на погонах свидетельствовали, если я не ошибся, что он генерал армии.
Я легонько постучал его по спине и сказал:
— Пардон, соудругу! (Извините, товарищ).
Генерал на это никак не реагировал, потому что был очень увлечен чем-то на столе и тянулся к вожделенному блюду, раздвигая тех, кто, стоял ближе к соблазнительным вкусностям, мешал ему. Повторив обращение, на которое опять не последовало никакой реакции, и поняв, что сейчас платье жены может потерпеть непоправимый ущерб, а она сама остаться в неглиже, я просто надавил на генерала плечом, то есть скорее боком, и столкнул его с подола. Он удивленно оглянулся, а когда я показал вниз и пояснил, в чем дело, страшно заволновался, начал извиняться перед Маей. И видимо, чтобы замять неловкость, как-то компенсировать нанесенный ущерб, он вдруг представил другого генерала, стоявшего рядом:
— Мадам, это мой друг, Мартин Дзур, Министр обороны… Все пожали друг другу ручки, о чем-то еще перемолвились, и, уже запасшись снедью со стола, продолжали беседу.
Так вот мы познакомились со знаменитым Дзуром, а чудесное платье из крайки было спасено. Оно потом досталось внучке, только она его ни разу не надевала: не та уже была мода.
«Невъездные»
После ухода из «Правды» я два года работал в Институте конкретных социальных исследований. Это нелепое «конкретных» появилось оттого, что ортодоксы от марксизма терпеть не могли какую-то еще социологию, кроме «марксистско-ленинского учения». То есть «научный коммунизм» — вот это и есть социология, а все те анкеты, опросы, анализы статистики — нечто от лукавого. Уж это никак нельзя ставить в один ряд с великим учением, надо как-то отделить от него, хотя бы таким словом, как «прикладная» или «конкретная». Объясняю упрощенно, потому что строго и всерьез говорить об этом просто не хочется.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Опасная профессия"
Книги похожие на "Опасная профессия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Волков - Опасная профессия"
Отзывы читателей о книге "Опасная профессия", комментарии и мнения людей о произведении.