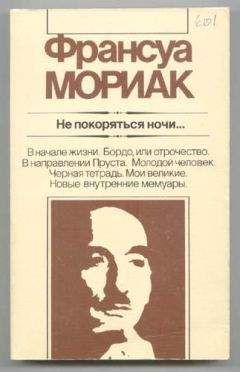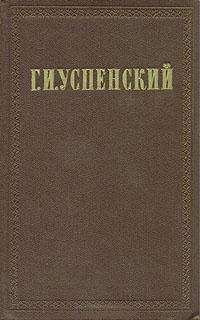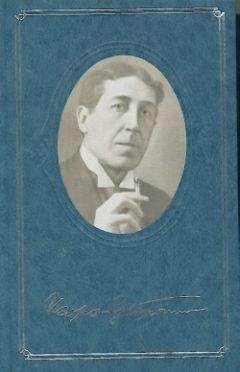Марина Цветаева - Том 5. Книга 1. Автобиографическая проза. Статьи

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 5. Книга 1. Автобиографическая проза. Статьи"
Описание и краткое содержание "Том 5. Книга 1. Автобиографическая проза. Статьи" читать бесплатно онлайн.
Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) — великая русская поэтесса, творчеству которой присущи интонационно — ритмическая экспрессивность, пародоксальная метафоричность. В Собрание сочинений включены произведения, созданные М. Цветаевой в 1906–1941 гг., а также ее письма разных лет и выполненный ею перевод французского романа Анны де Ноаль «Новое упование».
В первую книгу пятого тома вошли автобиографические произведения (большая часть их датируется 30-ми годами), а также статьи и эссе 1910–1931 гг.
Не отзываясь на такие выкрики, как: «блудная, типично эмигрантская затея» — выкрики, объясняемые явным нарушением душевного равновесия и посему достойные снисхождения, останавливаюся на более существенном заскоке — уже не чувств, а мысли:
«Можно целовать раны, но нельзя умиляться перед (!) проказой». Умиляться проказой, в толковании г. Цурикова, значит — помещать в номере, посвященном современной России, портрет Дзержинского без подписи «палач». Но самое удивительное впереди. Автор, в своем негодовании, доходит до того, что нынешней («собачьи-рабски преданной» России) эмиграции ставит в пример — прежнюю: «Надо признать, что прежние эмигранты такой „жертвенной объективностью“ и „всеприемлющей безличностью“ не обладали, начиная с Герцена и кончая Лениным». Здесь, г. Цуриков, остановка. Объединять в одном смысловом понятии и одном словесном периоде Герцена и Ленина (NB! того же Дзержинского) — не есть ли это оскорбление читателя худшее, нежели помещение на страницах одного журнала изображений Патриарха Тихона и Дзержинского? Г. Цуриков Герцена и Ленина — объединяет: вот-де, эмигрант Герцен, и вот-де, эмигрант Ленин, и оба, и т. д. «Своими путями» Патриарха Тихона Дзержинскому — противопоставляют: вот Патриарх Тихон в гробу, а вот — Дзержинский. Патриарх Тихон и Дзержинский на страницах журнала «Своими путями» и страницами друг от друга отделенные — соседи. Герцен и Ленин в статье г. Цурикова в теснейшем родстве. «Эмигрант эмигранту рознь» — вот ответ каждого мыслящего человека на Герцена и Ленина. «Патриарх — палачу рознь», — так, за очевидностью, не скажет никто, кроме автора статьи. В этом нравоучительном примере Герцена и Ленина оскорблен именно читатель (г. Цуриков о портретах: «грубое оскорбление читателя») — и не только рядовой газетный. И оскорбление непростительнейшее — оскорблена память большого русского писателя и, что еще больше, большого человеческого сердца. Ибо Герцен так же обратен Ленину, как «жена Гумилева» — его расстрельщикам. Не сомневаюсь, впрочем, что никакого намерения оскорбить память Герцена, объединяя его с Лениным, у г. Цурикова не было: показательная обмолвка, — так, с языка сорвалось. Посему советую в следующий раз, давая советы, поясняйте: с кого именно нам брать пример ο Ленина или с Герцена? Ибо вышеупомянутый совет, в настоящем его виде, звучит не иначе как: Ленин и K°.
«Хорошо еще, что текст журнала таков, что большевики не смогут пустить его в Россию». Вот, за исключением одобрительного отзыва об одной из статей и, в другом месте, слова «снобический», относящегося к тону редакционной статьи (столь же далекому от снобизма, как тон г. Цурикова — от просто-приличного), — единственный отзыв автора о содержании 80 стр<аниц> петита. Портрет Дзержинского увидел, а текст о Патриархе проглядел. Проглядел также статьи о русской прозе, о русской поэзии, о русской деревне, о русской школе, о русской книге, о русском студенчестве, о русском художнике, — добросовестно проглядел весь текст. (Проглядел, то есть — пропустил.) Но удовольствуемся пока заявлением г. Цурикова, что журнал из-за антибольшевицкого текста в Россию допущен не будет. С одной стороны — «умиление коммунистической проказой» и «рабски-собачье ползанье перед родиной», с другой стороны — «антибольшевицкий текст». Стало быть, все авторские громы сводятся к помещению портретов палачей без подписи: вор-палач-расстрельщик и пр. То есть вся статья — к грубейшей демагогии. Дзержинский — нарицательное, и пояснений не требует.
«Удовлетворение эмигрантских похотей не есть ни служение, ни путь к родине». Желание увидеть лицо врага — не похоть. Ненависть — страсть и требует достоверности. Дзержинский — олицетворение моей ненависти, хочу видеть ее лицо.
Статья г. Цурикова кончается призывом выбросить за борт всю «эмигрантщину». Состоя сотрудником «Своими путями», я охотно бы, наравне с остальными «нечистыми», дала себя выбросить за борт ковчега г. Цурикова, если бы на борту сего ковчега когда-нибудь находилась.
Но на борту сего ковчега не находилась никогда, ибо видела, из каких бревен он состоит, и с первых секунд знала, что ковчег — гнилой.
И — последнее: если в порядке истории помещенные портреты Дзержинского, Литвинова, Раковского, по мнению г. Цурикова, пятнают журнал «Своими путями», то в порядке вечности существующие имена Г. Гейне, Фета и Гумилева, по моему чувствованию, неуместны на злободневных устах автора «Эмигрантщины».
Прага,
8 октября 1925
Поэт о критике
«Souvienne vous de c'eluy а qui comme on demandoit а quoi faire il se peinoit si fort en un art qui ne pouvait venir а la connaissance de guиre des gens».
— «J’en ay assez de peu», repondit-il. «J'en au assez d'un. fen ay assez de pas un.»
Montaigne[173]Критика: абсолютный слух на будущее.
M.Ц.I. Не может быть критиком…
Первая обязанность стихотворного критика — не писать самому плохих стихов. По крайней мере — не печатать.
Как я могу верить голосу, предположим N, не видящего посредственности собственных стихов? Первая добродетель критика — зрячесть. Этот, не только раз — пишет, а раз печатает — слеп! Но можно быть слепым на свое и зрячим на чужое. Бывали примеры. Хотя бы посредственная лирика громадного критика Сент-Бева. Но, во-первых, Сент-Бев писать перестал, то есть поступил по отношению к себе, поэту, именно как большой критик: оценив, осудил. Во-вторых, даже — пиши он дальше, Сент-Бева, слабого поэта, покрывает Сент-Бев, большой критик, вождь и пророк целого поколения. Стихи — слабость большого человека, не больше. В порядке слабости и в порядке исключения. Большому — чего не простишь!
Но вернемся к достоверностям. Сент-Бев, за плечами которого большое творческое деяние, стихи писать перестал, то есть — поэта в себе отверг. N, за которым никакого деяния нет, не перестает, то есть на себе, как на поэте, упорствует. Сильный, имевший право на слабость, это право презрел. Слабый, этого права не имевший, на нем провалился.
— Судья, казни себя сам!
Приговор над собой, поэтом, громадного критика Сент-Бева — мне порукой, что он плохого во мне не назовет хорошим (помимо авторитета — оценки сходятся: что ему — плохо, то мне). Суд Сент-Бева, критика, над Сент-Бевом, поэтом — дальнейшая непогрешимость и неподсудность критика.
Поощрение же посредственным критиком N посредственного поэта в себе — мне порукой, что он хорошее во мне назовет и плохим (помимо недоверия к голосу — оценки не сходятся: если это хорошо, то мое, конечно, плохо). Ставь мне в пример Пушкина — я, пожалуй, промолчу и, конечно, задумаюсь. Но не ставь мне в пример Ν — не захочу, а рассмеюсь! (Что стихи стихотворного, умудренного всеми чужими ошибками, критика, как не образцы? Не погрешности же? Каждый, кто печатает, сим объявляет: хорошо. Критик, печатающий, сим объявляет: образцово. Посему: единственный поэт, не заслуживающий снисхождения — критик, как единственный подсудимый, не заслуживающий снисхождения — судья. Сужу только судей.)
Самообольщение N-поэта — утвержденная погрешимость и подсудность N-критика. Не осудив себя, стал подсудным, и нас, подсудимых, обратил в судей. Просто плохого поэта N я судить не буду. На это есть критика. Но судью N, повинного в том, в чем винит меня — судить буду. Провинившийся судья! Спешный пересмотр всех дел!
Итак: когда налицо, большого деяния и большого, за ним, человека, не имеется, следовательно — в порядке правила: плохие стихи стихотворному критику непростительны. Плохой критик — но, может быть, стихи хорошие? Нет, и стихи плохие. (Ν — критик.) Плохие стихи — но, может быть, критика хорошая? Нет, и критика плохая. N-поэт подрывает доверие к N-критику, и N-критик подрывает доверие к N-поэту. С какого конца ни подойди…
Подтверждаю живым примером. Г. Адамович, обвиняя меня в пренебрежении школьным синтаксисом, в том же отзыве, несколько строк до или спустя, прибегает к следующему обороту:
«…сухим, дерзко-срывающимся голосом».
Первое, что я почувствовала — невязка! Срывающийся голос есть нечто нечаянное, а не нарочное. Дерзость же — акт воли. Соединительное тире между «дерзко» и «срывающимся» превращает слово «дерзко» в определение к «срывающимся», то есть вызывает вопрос: как именно срывающимся? не: от чего срывающимся?
Может ли голос сорваться дерзко? Нет. От дерзости, да. Заменим «дерзко» — «нагло» и повторим опыт. Ответ тот же: от наглости — да, нагло — нет. Потому что и нагло и дерзко-умышленное, активное, а срывающийся голос — нечаянное, пассивное. (Срывающийся голос. Падающее сердце. Пример один.) Выходит, что я нарочно, по дерзости, сорвала голос. Вывод: отсутствие школьного синтаксиса и более серьезное отсутствие логики. Импрессионизм, корни которого, кстати, понимаю отлично, хотя подобным и не грешу. Г. Адамовичу хотелось дать сразу впечатление и дерзости и сорвавшегося голоса, ускорить и усилить впечатление. Не подумав, схватился за тире. Злоупотребил тире. Теперь, чтобы довести урок до конца:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 5. Книга 1. Автобиографическая проза. Статьи"
Книги похожие на "Том 5. Книга 1. Автобиографическая проза. Статьи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Марина Цветаева - Том 5. Книга 1. Автобиографическая проза. Статьи"
Отзывы читателей о книге "Том 5. Книга 1. Автобиографическая проза. Статьи", комментарии и мнения людей о произведении.