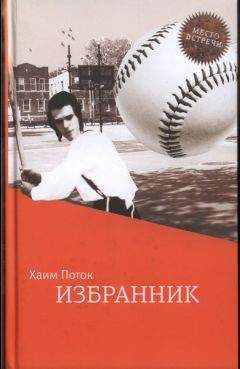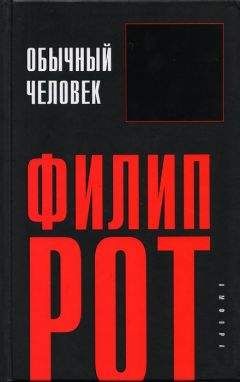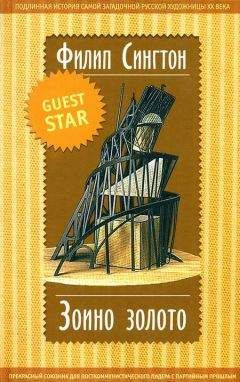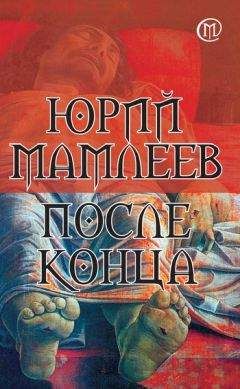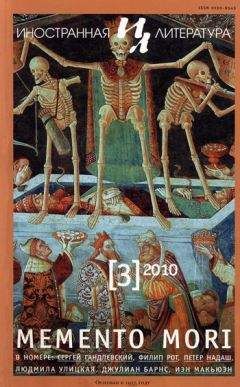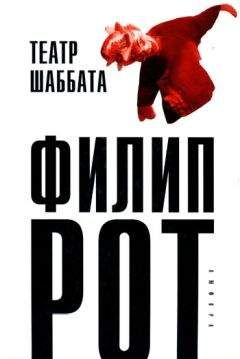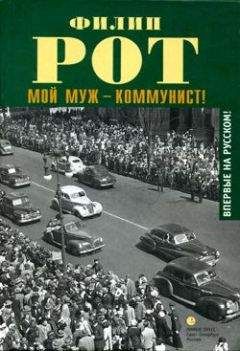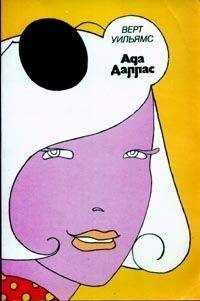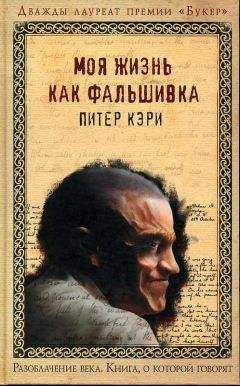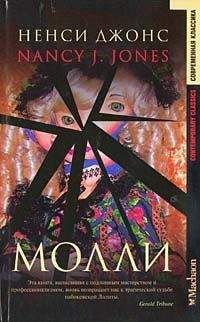Филип Рот - Моя мужская правда
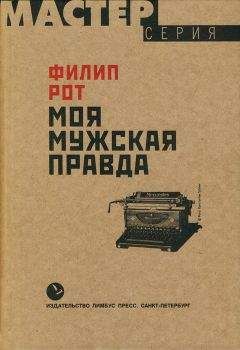
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Моя мужская правда"
Описание и краткое содержание "Моя мужская правда" читать бесплатно онлайн.
В центре остросюжетного романа — семейные отношения Питера и Морин Тернопол, молодого талантливого писателя и женщины, мечтающей быть его музой, но превращающейся а Немезиду. Их союз был основан на обмане и моральном шантаже, но длился он так долго, что даже после смерти Морин Питер все еще пытается — и тщетно — освободиться в вымышленном им мире…
Хотите анекдот? Он о том, как ваш покорный слуга томился в одиночном заключении, пребывая у всех на виду. Ха-ха-ха. Осенью 1964 года, хмурым вечером, идет как-то профессор Тернопол к доктору Шпильфогелю. Заглядывает по пути в букинистический магазин Шульта на Четвертой авеню, спускается по лестнице в подвальный этаж. В просторном зале стоят ряды стеллажей по двенадцать футов высотой, на полках в алфавитном порядке — тысячи книг, выставленных на продажу. Тернопол без толку шляется по этому книгохранилищу и вдруг упирается — совершенно случайно! — в букву «Т». И надо же — видит свой роман. «Еврейский папа» в нетронутой белоголубой суперобложке. Слева от него — Свифт, Стайрон и Стерн, вокруг — Теккерей, Торо и Троллоп. Профессор берет книгу и открывает. Надпись на титульном листе гласит, что он имеет дело с подарком Пауле от Джей, апрель 1960 года. Надо же! Апрель шестидесятого. Как раз, когда мы с Морин заключили кратковременный мир. Где ж это было? Ага, среди цветущих азалий на Испанских террасах. Перелистал книгу в поисках других пометок и поставил Тернопола на место — неподалеку от «Сказки о бочке»[122] и «Истории Генри Эсмонда»[123]. Явиться миру в таком славном соседстве — какое язвительное напоминание о триумфальном дебюте! Гордость и отчаяние вскипели во мне адской смесью. «Ах ты сука!» — процедил я сквозь зубы, не заметив, что рядом оказался подросток в застиранной полотняной курточке и туфлях-теннисках; в руках — стопка книг. Должно быть, подсобник, таскает литературу со склада в торговый зал. «Это вы мне?» — удивленно спросил он. Я смутился: «Нет, нет». — «Прошу прощения, сэр, вы, случаем, не Питер Тернопол?» Я почувствовал на щеках легкий жар: «Да, он». — «Романист?» Я кивнул; теперь уже паренек залился краской. Помолчал и выпалил: «Вот мы и думаем, что это с вами случилось? Не пишется?» В ответ романист пожал плечами: «Да нет, пишу. Ищу новые формы». В следующее мгновение профессор Тернопол выскочил из подвала и помчался по улицам, лавируя среди служилого люда, выброшенного вращающимися дверьми из офисов; он пересекал перекрестки, увертываясь от автомобилей, вливался в безликие человекопотоки и, наконец, добравшись до желанной Восемьдесят девятой улицы, плюхнулся на кушетку, чтобы поведать задушевному другу и любимому руководителю душераздирающий анекдот. Противоречивые чувства душили меня всю дорогу от магазина Шульта до кабинета доктора через всемирно знаменитую центральную часть города, побывать в которой стремятся путешественники со всего света, преодолевая расстояния, совершенно несоизмеримые с возможным удовольствием от посещения. Противоречивые чувства: пособники Морин сдают меня на продажу, но зато подсобники букиниста узнают в лицо.
После сеанса я пошел к Сьюзен. Как всегда. Как всегда, меня ждал ужин; потом мы читали, расположившись друг напротив друга в креслах у камина; около полуночи ложились спать, перед сном минут пятнадцать-двадцать безуспешно пытаясь восстановить взаимный эротический интерес. Утром Сьюзен вставала чуть свет, чтобы в семь тридцать уже быть первым пациентом доктора Голдинга. Я уходил, взяв какую-нибудь книжку, на час позже, чем она. Попадавшиеся навстречу обитатели дома смотрели на меня с легкой брезгливостью: уж если молодой вдове Макколл вздумалось связаться с задумчивым евреем в мешковатых вельветовых брюках и поношенных замшевых туфлях, то почему бы не попросить его пользоваться лифтом черного хода? Вслух никто ничего не говорил. Я, в общем, был не хуже (и не лучше) их и в быту строго следовал правилам и нормам, помня о совете Флобера тому, кто хочет стать поистине оригинальным в творчестве.
Что же касается творчества, то дело шло. Хотя творилось нечто не совсем понятное. Я неустанно трудился; результаты труда выглядели так вяло, что чаще всего немедленно по прочтении отправлялись в чулан, в картонную коробку из-под винных бутылок. Впрочем, за минувший год я опубликовал два рассказа в «Нью-Йоркере» и «Кенион-ревю», третий должен был вот-вот появиться в «Харперсе». Это были первые произведения, подготовленные к печати после выхода «Еврейского папы» (1959). Рассказы стояли на периферии моих нынешних писательских интересов и отдавали скорее дань прошлому: ясные и прозрачные, они погружали читателя в детство автора; воспоминания тех дней бурно всколыхнулись в ходе откровений на психоаналитической кушетке. Ни мочи, ни женитьбы, ни самого имени Морин. А над главной книгой, повестью о злоключениях зрелости, я по многу часов ежедневно корпел до изнеможения. Результат: две с лишним сотни страниц в картонной коробке из-под вина. Первый, второй, третий вариант — и так далее. Чернильная правка. Карандашные стрелки. Ссылки и отсылки. Комментарии на полях. Схематические кружки, квадраты и крестики. Постраничное разбиение: римские цифры, арабские цифры, буквы, одному мне понятные (когда-то) значки. Шифровальщик по военной специальности, я и сам не мог теперь разобрать, что здесь к чему. Восстановить мысли и замысел автора не представлялось возможным; можно заняться разве что реконструкцией его психического состояния, была бы охота. Рукопись представляла собой послание в никуда, и форма его свидетельствовала о смятении. В потрепанном томе переписки Флобера (эта книга с казарменных лет была моей настольной, помогавшей скрасить то однообразие армейского быта, то суету жизненных передряг) я наткнулся на абзац, до определенной степени объясняющий нараставшее творческое бессилие. Питер Тернопол выписал цитату и приклеил к коробке из-под вина, где томились две сотни черновых страниц, имевших крайне слабую надежду стать прозой. Своеобразная надгробная надпись моим писательским усилиям. Флобер обращался к Луизе Коле, многолетней своей возлюбленной, напечатавшей издевательские злые строки об Альфреде де Мюссе: «Твое перо было ведомо недобрыми чувствами, поэтому взгляд оказался искаженным. В стихах нет качества, главного для любого художественного произведения: эстетики. В данном случае искусство использовалось для того, чтобы излить гнев, и, таким образом, предстало ночной посудиной, служащей для облегчения. Это нехорошо пахнет; это пахнет ненавистью!» И мочой.
Вновь и вновь чиркая черновики, я отчетливо осознавал себя безутешным родственником, который, суетливо хлопоча, пытается оживить дорогого покойника — вместо того, чтобы смириться и предать прах земле. Но он не хочет смириться и множит собственные страдания. Что ж, гениальный мастер, который со студенческой скамьи направлял меня по литературной стезе, сказал и такие слова:
«Искусство, подобно еврейскому Богу, постоянно ждет жертв».
И еще:
«Движитель искусства — по существу, фанатизм».
И:
«…крайности доводят идею до абсурда».
Эти мудрые мысли я тоже выписал и приклеил (не без некоторой, впрочем, иронии, вспоминая бумажные язычки с предсказаниями уличных прорицателей) к злосчастной коробке. Доктор Шпильфогель наверняка назвал бы такой поступок «внешней фиксацией глубокой внутренней травмы».
Явившись вечером к Сьюзен с «Американским форумом психотерапевтических исследований» в руках, я не пошел, как обычно, на кухню, чтобы, усевшись на табурете, поболтать с хозяйкой, пока она готовит вечерние лакомства и деликатесы, хотя такое времяпрепровождение уже вошло в традицию. Господи, как легко в последние годы стали усваиваться привычки! Я, как утопающий, хватался за любую соломинку, надеясь удержаться на поверхности упорядоченной жизни; но на этот раз, едва поздоровавшись, направился в гостиную и, примостившись на краешке дивана, покрытого ярким простроченным покрывалом (прежняя собственность Джейми), принялся за чтение статьи Шпильфогеля, которая называлась «Творческие способности: нарциссизм художника». Дойдя почти до середины, я нашел то, что искал, — по крайней мере, так мне показалось: «Один поэт, американец итальянского происхождения, достигший к сорокалетнему рубежу неоспоримых профессиональных успехов, был вынужден обратиться за психотерапевтической помощью ввиду постоянного чувства обеспокоенности, возникшего на почве разрыва с женой и порожденных этим невротических состояний». Раньше Шпильфогель толковал об актерах, живописцах и композиторах; выходило, что «сорокалетний поэт итальянского происхождения» — я. Но позвольте: я стал пациентом в двадцать девять лет — из-за непоправимой ошибки, совершенной в двадцать шесть. Двадцать девять и сорок — дьявольская разница, и жизненный опыт иной, и надежды, и даже характер. А что, по-вашему, многоуважаемый доктор, означает «неоспоримый профессиональный успех»? У меня, действительно, были профессиональные успехи, но порог вашего кабинета в 1962 году переступил человек, который уже три года сам не мог перечитывать без дрожи отвращения плоды своих каждодневных мучительных трудов. Я и преподавать-то был не в силах, боясь, что Морин, ворвавшись в аудиторию, разоблачит перед студентами меня и достигнутые мною так называемые успехи. И для чего, интересно знать, «порядочный еврейский мальчик» (как говаривал брат Моррис) превратился в американца итальянского происхождения? Ну ладно, для немца Шпильфогеля что еврей, что итальянец — одна шушера, но уж между поэтом и романистом общего не больше, чем у жокея и водителя дорожного катка. Такие вещи надо бы понимать, доктор, тем более, когда изучаешь творческие способности. Поэзия и проза возникают из разных источников; вообще не стоит браться за рассуждения о творчестве, да и о нарциссизме, если игнорируешь такие важные параметры личности, как возраст, самоидентификация, национальное происхождение и род деятельности. Уж если хотите сближать творцов, то сама собой напрашивается аналогия между прозаиком и портретистом, вернее, мастером автопортрета: и тот и другой всматриваются, чтобы соблюсти точность, но не в зеркало, а куда глубже. А вы говорите: нарциссизм! Суть не в отражении, а в отображении — именно здесь начинается тяжкая сознательная работа, которая и есть искусство! Тут бы и вам поучиться. Фрейд, доктор Шпильфогель, изучал свои сны не потому, что был «нарциссистом»: просто никакие сновидения не доступны для познания в большей степени, чем собственные.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Моя мужская правда"
Книги похожие на "Моя мужская правда" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Филип Рот - Моя мужская правда"
Отзывы читателей о книге "Моя мужская правда", комментарии и мнения людей о произведении.