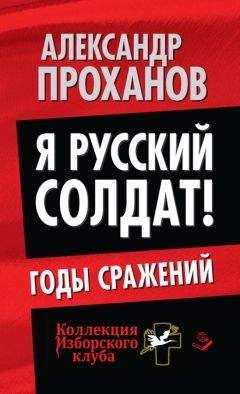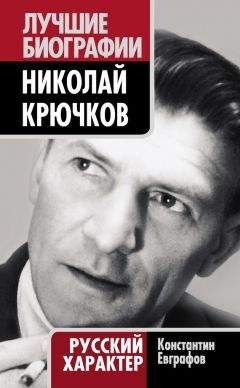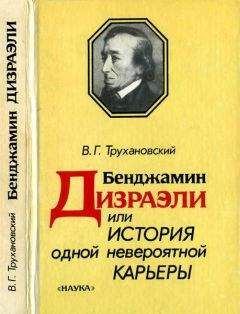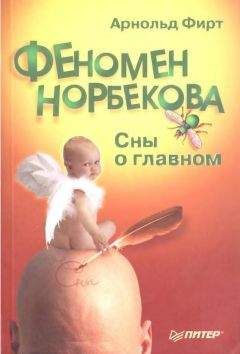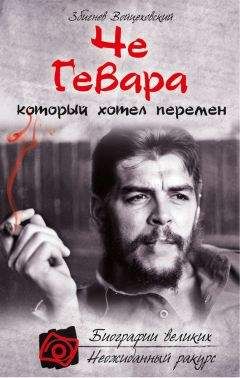Лидия Лебединская - С того берега
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "С того берега"
Описание и краткое содержание "С того берега" читать бесплатно онлайн.
В жизни ушедших, и особенно ушедших давно, мы всегда ищем и находим цельность и замысел. Однако на самом деле человеческая судьба не только движется по прихотливой кривой, не только дробится на множество периодов, нередко противоречащих один другому, но даже сама кажущаяся цельность представляется разному глазу неодинаковой в зависимости от точки зрения.
Николай Платонович Огарев, незаурядный русский поэт и знаменитый революционер, не похож ни на его хрестоматийно сложившийся облик, ни на ту личность, что рисуется из статей врагов (предостаточно их было у него, как у всякого яркого человека), ни на тот сусальный, некрологически непогрешимый портрет, что проглядывает из ученых трактатов. Был он весьма разноликим, как все смертные, сложным и переменчивым. Много в нем верности и доброты, причем последнего чересчур. То и другое причиняло ему множество мелких бед и крупных несчастий, но они не только не сломили его, но даже не притупили два этих главных свойства. Верность и доброта сопутствовали ему до смерти. Что ж до цельности жизни, то на самом-то деле постоянно и неизменно испытывал он острые и глубокие терзания от естественной необходимости выбирать. И кажущаяся цельность судьбы — просто цельность натуры, всякий раз совершающей выбор, органичный душе и мировоззрению. Он никогда не лгал и делал выбор с глазами открытыми, всегда сам, кап и подобает свободному человеку, отчего и казался зачастую гибким и пластичным своим современникам, а подчас и весьма странным. Жил он в очень трудное время — но бывают ли времена легкие? Окружали его яркие и своеобычные люди. Нескольких современников его, знакомых с ним или незнакомых, нам никак не миновать, ибо нельзя восстановить облик человека вне той эпохи, в которую он жил, а эпоха — это люди, наполнявшие ее и ею наполненные. Люди, строившие свою судьбу и каждый раз делавшие свой выбор. Оттого, быть может, галерея современников часто больше говорит о человеке, нежели самое подробное описание его собственной жизни. К счастью, осталось много писем. И воспоминаний полным-полно. И архивы, где хранятся не только документы, но и труды, не увидевшие света в свое время. А что до любви к герою — сказать о ней должна сама книга.
Это книга об очень счастливом человеке. Больном эпилепсией, не раз обманувшемся в любви, об изгнаннике, более всего на свете любившем родину, человеке, который осмелился дерзнуть и добился права быть всегда самим собой.
Родился он в тринадцатом году прошлого века 24 ноября по старому стилю, в городе Санкт-Петербурге — упомянем об этом здесь, чтобы сразу же обратиться к его молодости.
Огарев приехал в Лондон, переполненный всяческими идеями. Он привез с собой несколько годовых комплектов лучших русских журналов последних лет и договорился в конторе «Отечественных записок» о присылке ему свежих номеров журналов, оплатив их надолго вперед. Привез он и целую кипу рукописей, ходивших в Петербурге по рукам, прозу и стихи, некогда не пропущенные цензурой или даже не поступавшие к ней. Герцен давно уже просил о присылке не печатавшихся стихов Пушкина, но почти никто не отозвался на просьбу. Огарев привез стихи декабристов — в Лондоне они немедленно увидели свет, — павшие и сосланные словно вновь возвращались в Россию, дважды миновав ее границу. Привез он множество и собственных стихов — Искандер очень любил их, не случайно такое множество эпиграфов к главам «Былого и дум» — отрывки из стихов Огарева. Главным тогдашним показателем качества и нужности его стихов была их повсеместная распространенность. Их читали, переписывали, передавали, печатали, декламировали, клали на музыку. Они были не столько фактом литературного творчества, сколько благодатным достоянием тогдашнего сознания россиян. Их не просто читали, ими жили. По ним поверяли и ставили мировоззрение и поступки, у честнейшей молодежи тех лет от мировоззрения неотрывные. Потому и Герцен так любил стихи своего друга, так хотел печатать их, боясь делать это до его приезда. Надо сказать, что первое время пребывание в Лондоне оказалось для Огарева плодотворным фантастически: несколько поэм и десятки стихов появились в его записных книжках, знаменуя острое поприездное ощущение необходимости собрать и подытожить былую жизнь. Ибо начиналась вторая ее половина, совершенно отличная от первой.
Он привез с собой в Лондон свежее дыхание России, словно часть ее сгущенной атмосферы предрассвета и пробуждения, потому, естественно, именно от него и должна была исходить идея об издании газеты. Быстрой и отзывчивой, держащей руку на пульсе лихорадившей страны. То была лихорадка кризиса, обещавшего начало выздоровления, в чем оба они и собирались принять решительное участие. Крымская война безжалостно разбудила Россию от странного и горячечного сна, от насильственного оцепенения. Не случайно Николай умер в это время. Умер, ибо хотел умереть (а возможно, справедлива и легенда, будто бы принял яд из рук доверенного врача). Ибо именно война показала, что все доклады, рапорты, реляции, отчеты, акты, протоколы и донесения лгали решительно и отчаянно, с полным бесшабашием трусости и наплевательства. Всю свою жизнь самодержец слышал и читал только то, что хотел слышать и читать. Подлинность обнажила война. И она же обнажила и напрягла назревшую уже проблему — именно о ней главным образом и заговорила газета эмигрантов.
Знаменитая, хрестоматийная ныне констатация того, что именно Герцен впервые после декабристов развернул революционную агитацию, сполна относится и к Огареву. Наш герой, привезя в Лондон идею газеты, пристально освещающей российские наболевшие проблемы, возобновил и продолжил замершую было (но совсем не умершую) струю освободительного движения. Революционное слово стало его революционным делом. Стало гражданским смыслом его жизни, оторванной ныне от родины и целиком принадлежащей ей. Революционное слово, революционная мысль, действенные контакты со всеми, кто возобновил и поддержал дело освобождения России, стали отныне главным содержанием его очень цельного отныне и очень целеустремленного существования. Все, что сделал для России «Колокол», неотрывно связано с именем Огарева. Все, кто участвовал в освободительном движении, прямо или косвенно общались с ним — лично, по газетным статьям, письменно, через друзей и посредников. Единомышленники в главном, эти люди существенно расходились в тактике и деталях, ожесточенно спорили друг с другом, но. сходились все их споры и их согласия в «Колоколе» — центральном и не имеющем себе подобных органе русской революционной мысли. Сходились к Герцену и Огареву. А теперь — самое начало вступления нашего героя на открытое революционное поприще.
В первом же номере «Колокола» появились слова, прямо обращенные к правительству. Так никогда ещё не звучала русская речь в отечественной печати:
«Пора проснуться! Скоро будет поздно решать вопрос освобождения крепостных мирным путем; мужики решат его по-своему. Реки крови прольются, — и кто будет виноват в этом? Правительство!
Россия настрадается, а на правительство история положит клеймо злонамеренности, или бездарности, в обоих случаях позорное».
И называлась эта заметка непривычно для русского уха — требовательно и прямо: «Что сделано для освобождения крепостных людей?» Констатировалось с осуждением и гневом: ничего.
«Несмотря на все ожидания и надежды, правительство ничего не сделало для освобождения крепостного сословия и не подвинуло ни на шаг решение этого вопроса.
Что же оно делает? Некогда ему, что ли? Или важное занятие формою военных и штатских мундиров до такой степени поглотило государственную мысль, что ни на какое дело не хватает времени? Или правительство довольствуется собственными слезами умиления, чувствуя себя не таким, как правительство Незабвенного, и далее ничего не хочет делать? Или сквозь шум праздников и охотничьих труб псарей оно не умеет расслушать клик народный?..
Или правительство уже такое мертвое, что никакая государственная нужда его не разбудит?.. Стало, оно хвастало своей любовью к России? Стало, оно нас обманывало? Или оно думало, что Россию можно спасти без государственной мысли, а только маленьким добродушием, доходящим до потачки государственным ворам? В таком случае оно только позорится перед светом».
Так впервые была громко прервана холопская российская тишина. В этом же первом номере некто, пожелавший остаться неизвестным под буквами «Р. Ч.» (вскоре это сокращение стало подписью более полной — «Русский человек»), поместил свое письмо к издателю «Колокола». Это неизвестный «Р. Ч.» обсуждал цели и назначение первой вольной русской типографии в Лондоне. Он уже прочитал несколько больших статей, присланных Герцену и напечатанных в удивительно разноголосом, тоже невиданном ранее сборнике «Голоса из России», и благодарил за них, радуясь, что они появились.
Далее автор обсуждал несколько статей и мнений, к печальному и убедительному выводу приходя: рабство покуда еще сидит глубоко внутри в русском человеке, властно и жестко определяя самое его мышление. Раскрепощение сознания, освобождение от своего собственного глубинного рабства, позорно проявляющегося в нетерпимости к чужой мысли, — вот на что вынужден «Колокол» сразу обратить внимание каждого. Как бы демонстрируя взгляд раскованный и свободный, автор письма к издателю, этот самый неизвестный «Р. Ч.» сразу же за письмом предлагал читателю «Колокола» не более и не менее как разбор отчета министра внутренних дел царю! Личный отчет министра! Да еще тот, на котором государь изволил собственноручно начертать сверху: «Читал с большим любопытством и благодарю в особенности за откровенное изложение всех недостатков, которые с божьей помощью и при общем усердии, надеюсь, с каждым годом будут исправляться».
Полноте, меланхолически замечал разбирающий этот отчет «Р. Ч.»: «Не знаю, на сколько будет божьей помощи, но общего усердия исправлять государственные недостатки от чиновничества ожидать нельзя; это противно его интересам; общее усердие явится только тогда, когда все классы народа будут вызваны к деятельности, к беспрепятственному выражению своего мнения и обсуживанию своих нужд».
Оказывалось, что пустой демагогии и привычной риторики было здесь привычно много, — отмеченная, она и впрямь поражала неделовой суетностью парадного красноречия, тем более что речь шла о только что позорно проигранной войне: «Чиста и непорочна была жертва русских людей, ибо исходила она не из личных расчетов, но из светлого источника любви к отечеству».
А за прелестными словами этими, замечал автор статьи, господин министр, естественно, забывал сказать о гнилом сукне, поставлявшемся на одежду солдат, о том, как босы и голодны были ратники по «нерадению и своекорыстию начальников», о разорении мужиков, насильно лишавшихся лошадей и подвод, о повсеместном чиновничьем грабеже. И добавлял этот спокойный «Р. Ч.»: «Или господин министр не знает всего этого? Ну, тогда он не способен быть министром».
Министр сообщал государю, что из четырех с лишним сотен жалоб только полтора десятка оказались справедливыми. Вполне естественно, комментировал «Р. Ч.»: разве господин министр не знает, что в России «о справедливости жалоб судят те же лица, на которых приносятся жалобы, или лица, живущие с ними заодно?»
От вольности такового подхода волосы должны были шевелиться на голове у непривычного российского читателя. Но поток писем, хлынувших вскоре в Лондон, подтвердил освежающую пользу тона, языка и полной раскованности газеты.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "С того берега"
Книги похожие на "С того берега" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лидия Лебединская - С того берега"
Отзывы читателей о книге "С того берега", комментарии и мнения людей о произведении.