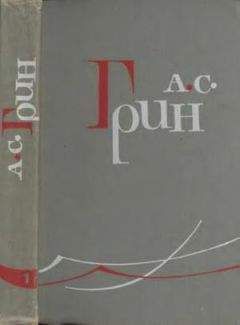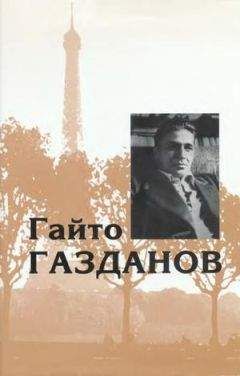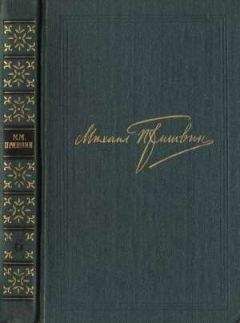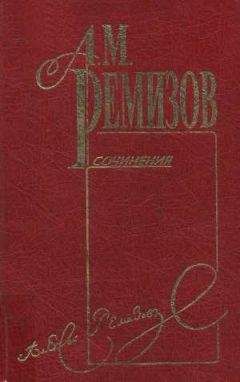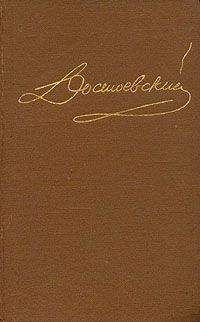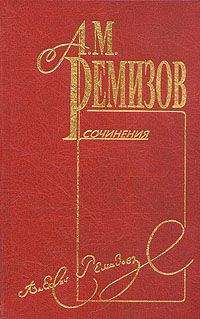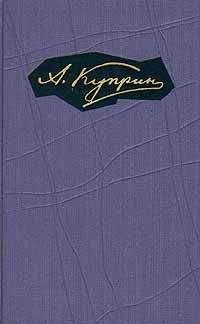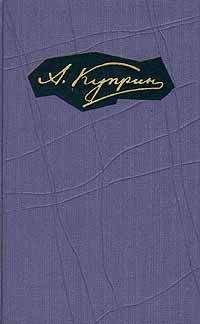Алексей Ремизов - Том 3. Оказион
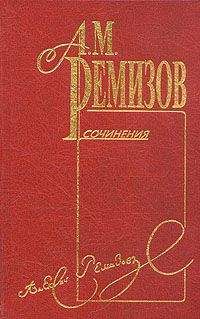
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 3. Оказион"
Описание и краткое содержание "Том 3. Оказион" читать бесплатно онлайн.
В 3-м томе Собрания сочинений А.М. Ремизова представлены произведения малой формы, созданные в России в 1896–1921 гг. Объединенные автором в циклы реалистические рассказы образуют целостную литературную автобиографию, в которой отразились хроника русской жизни и сейсмология народных умонастроений первых двух десятилетий XX в.
— Дух уныния, соединяясь с духом скорби и через него подкрепляемый, дух лютый и тяжкий. Но надо помнить, что часто из любви поражает Бог своим духовным жезлом человека, чтобы преуспевал человек в добродетели. И в конце концов непременно произойдет изменение и все просветлеет опять и станет неколебимей. И еще надо помнить, — сказал старец, — что без Божьего попущения враг ничего не может нам сделать, и если печалит дух наш, то лишь столько, сколько попускается ему от Бога. И ничем человек так не может доказать своей любви к Богу, как благодушным перенесением печальных обстоятельств, и это возводит его к высшему совершенству. Иначе неблагодарность, хуление, сомнение, страх и отчаяние наполнят и вконец измотают душу. Сколько силы есть, надо молиться, — сказал старец, — а к молитве приложить чтение и рукоделие.
Иван Парфеныч никогда ничего не читал, но дело делал.
— Я работаю, — возразил он, — да все из рук валится.
— Понуждай себя, — сказал старец, — а когда останешься без дела, переноси мысли свои на какой-нибудь предмет божественный или простой человеческий сердечный. Главное же терпение и упование. Ведь, враг и наводит на нас уныние, чтобы лишить душу упования на Бога, но Бог-то никогда не допустит, чтобы душу, уповающую на него, одолели напасти.
И когда говорил старец, становилось легко и казалось, что все так и будет: он победит уныние свое и пойдет жизнь по-старому полной чашей, нет, еще полнее, дочерей замуж выдаст, внучат дождется — —А когда вернулся в свою тюрьму и взялся за канцелярское свое дело, сразу же в первый же день ясно увидел, что не может.
И с каждым днем это все яснее ему.
А главное, конца-то не видно.
В полдень, когда в канцелярии никого не было, и даже Люмушка вышла, Иван Парфеныч, по-всегдашнему задерживающийся, один был среди бумаг тюремных.
В руках он держал какое-то дело, которое нужно было ему положить на стол, и он этого никак не мог сделать: и не то, чтобы забыл, а просто пошевельнуться не мог.
И в таком оцепенении своем безнадежном увидел крюк от лампы, знакомый, испокон века торчавший в потолке. И какое-то чувство смутное, но сильное, как от случайной находки, в которой может быть цель всей жизни, толкнуло его и сразу он вышел из оцепенения своего.
Дело положил он на стол, куда следует, потом пододвинул стол, поставил на стол стул, сам залез на стул, зацепил за стул сахарную бечевку и как-то само уж собой вспетлил бечевку — и так же вошла петля как-то уж само собой на шею —
Что ж еще?
— Ну — —прощай!
И оттолкнул ногами стул.
И там, над бумагами, где никогда не светила лампа, точно в насмешку, в самый ясный осенний полдень, закачался вместо лампы, как темная лампа, спокойный и ясный Голубков.
1919 г.
Крестики*
Жизнь моя померкла. Один я остался на свете. И никому не нужен. Да и мне никого не надо. Влачу дни в постылом труде, чтобы зачем-то еще тянуть на земле.
А ей-Богу спокойно бы помер.
Главное, что не вижу никакого просвета — такая впереди равнина и конца ей нет.
Не рвусь никуда, как раньше. Да и некуда. И знаю, от своей судьбы не уйдешь.
Мерно колышется воз. Между оглоблей тощая ребрастая кляча, наклонив голову, тянет его из последних… Где надежды? А ведь я родился не оглодком. Где идеал? И не сухарем рос я. Где строительство жизни? Верил в какую-то справедливую жизнь, на создание которой и я положу мои камень… И вот слышу свист кнута да понуканье:
— Но-но, ты! Кляча!
А в последней моей надсадке, как в насмешку, мне видятся кони и тут где-то близко посвистывает московский ямщик:
— Эй, вы, голуби!
А какие кони? Кони — кляча. И какой ямщик? Первый, кто захочет, у кого есть хлыст.
Вечером, вернувшись со службы в свою пустую неуютную комнату к своему письменному столу — стол, это единственное, что и осталось у меня от прошлого! — я остаюсь один и сам себе хозяин.
А какая мне радость: мне незачем быть хозяином. А одиночество меня не пугает: я всегда один, везде.
Как пусты будни, но еще пустее праздник! Праздники я несу, как самое жестокое проклятие: просто деваться некуда.
И опять скажу, будет и у меня праздник — настоящий, и будет он тогда, когда меня не будет.
Не страшна смерть, а просто неизвестна. — Вероятно, ничего и нет, а так провалишься в пустую дверь — и конец.
* * *У меня, как и у всех, была мать, отец, близкие и любимые люди и всем-то пришел конец. И один я, только один на земле и есть.
Никого и ничего не осталось
Нет, пожалуй, не ничего. Осталось! Семь крестиков в коробке на столе остались, да большое распятие на стене над постелью.
Крестики — это прошлое, мое прошлое.
Крест — будущее, мое будущее.
Когда улягусь я в последний раз на своей узкой койке, в моих скрещенных холодных руках будет этот черного дерева крест в медной оправе с медным рельефным распятым Христом.
Так и понесут…
А помню хорошо, как появился этот крест.
Было такое светлое, громкое весеннее утро. Больше я не слышу таких звуков и от солнца прячусь — или глаза мои ослабели или всякая яркость, как и всякая резкость, чересчур требовательна, а где уж ответить! В глухой городок, где мы тогда жили, пришел венгерец-коробейник.
Не обошел и наш дом. С грохотом опустил он на пол прихожей свой тяжелый короб перед отцом и матерью мать держала меня за руку.
Раскрылся короб и полились материи, картины, книги, листки, шелк, золотые вышивки, ну, все, что приносят венгерцы. Наконец, на самом дне очутился и этот черный с медью крест, его и купила мать.
И как часто потом поминала она этот крест.
Куплен тяжелою мукой всей моей жизни, — поминала она, — и принес мне злую судьбу.
После ее смерти крест достался мне и связал ее судьбу с моей.
А вот крестики… крестики, это другое дело.
Каждая женщина, — кого я любил и меня кто любил, — оставляла на память крест. Крест надевался на меня с благословением и со слезами. А я его снимал с шеи, клал в стол в коробку и забывал. Я уж другую любил и другая дарила крест. Ее сменяла третья, четвертая…
В минуты уныния и тоски нестерпимой усаживаюсь я за свои старый письменный стол и из правого ящика вынимаю розовую выцветшую коробку с надписью тиснеными буквами — рябиновая пастила Абрикосова — и крест за крестом, крестики тельные раскладываю по столу.
Тут все: и укор и умиление и такая боль, — только после сна, когда вдруг приснится чего никак не вернешь, так душа болит.
* * *Серебряный большой крест со сплошными лучами, как ромб, на серебряной цепочке…
Помню пустую длинную с низким потолком комнату на Большой Гончарной в Таганке. На столе около сдвинутых к стене книг водка, пиво и закуска самая простая — огурцы и селедка. За столом хозяин, мой приятель, Александр Иванович, лет на двадцать меня старше, неповоротливый и великий, как слон. Я ему не для водки, которую он пьет один понятливо и сладко со чмоком и горько до слез, я ему для разговора.
Живая, но заблудшая душа его, запутанная словами, я теперь понимаю, рвалась из всех сил на волю, а чего-то не было и он еще запутывался — до петли.
И вот я с ним разговариваю и кажется ему через мой разговор выкарабкивается он на свет Божий.
Познакомился я с ним в Тургеневской читальне и над книгой у нас завязалась дружба.
Все торговые дела ведет его мать и сестра, а он так — непутевый: днем он заходит в лавку посидеть, чаю попить, а вечера — в читальне. Мне, с ним по дороге и дорогой у нас всегда разговор, но главное там — в его пустой длинной комнате на Гончарной.
И о чем только мы с ним не говорили: и о Боге, и о вере, и о социализме, и так о прочитанных книжках, и так о событиях из жизни.
И когда мое слово приходилось ему особенно по душе, он ладонью вытирал себе губы и с умилением целовал меня. И это случалось всего чаще в большом подпитии, когда глаза его наливались слезами.
В разговорах мы просиживали до рассвета. Приятель начинал клевать носом и я уходил домой — жил я по соседству в Каменщиках, в двух шагах от Терехина.
Как-то на наших беседах появился приятель Терехина — здоровый малый, крепкий, кудреватый и очень хорошо одетый. Сам Александр Иванович ходил рвано и мято, а этот его приятель в перстнях на толстых пальцах. Его называл Терехин Сеней — Семен Петрович Краснопеев. По душе он был прямой противоположностью Александра Ивановича, никакой не мечтатель, а человек самой аршинной жизни, из молодых, крепко державший отцовское дело.
В разговорах он мало принимал участия, а если задавал вопросы, то всегда такие, которые сводили все наши полеты на самую рыночную таганскую толкучку. Пил он не меньше Александра Ивановича, но головы не терял и только в подпитии совсем уж не подавал голоса, и слышал ли что, трудно сказать.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 3. Оказион"
Книги похожие на "Том 3. Оказион" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Алексей Ремизов - Том 3. Оказион"
Отзывы читателей о книге "Том 3. Оказион", комментарии и мнения людей о произведении.