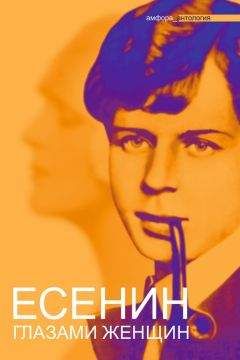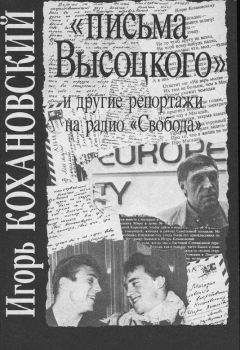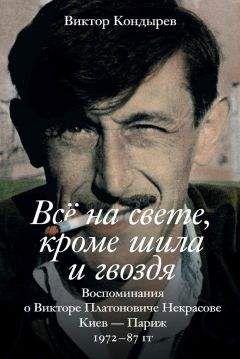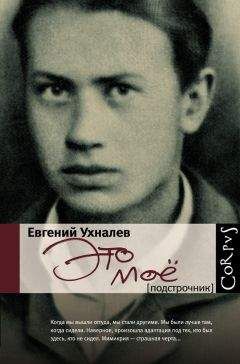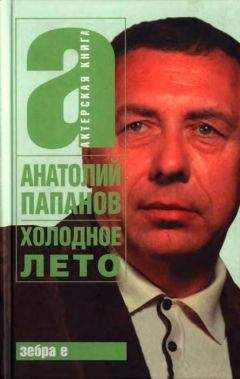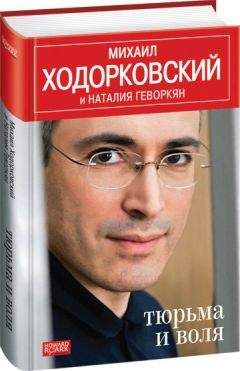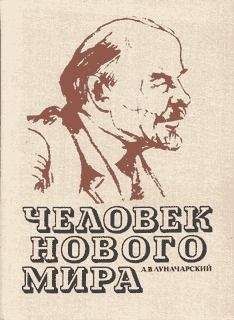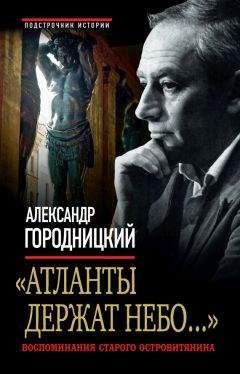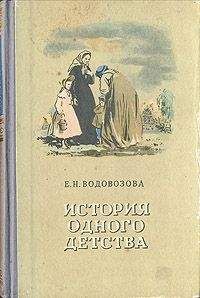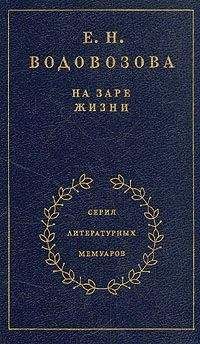Анатолий Гладилин - Улица генералов: Попытка мемуаров
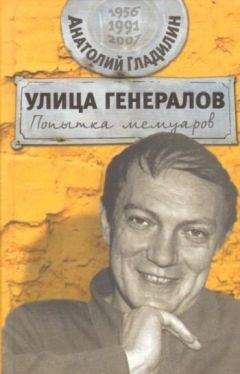
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Улица генералов: Попытка мемуаров"
Описание и краткое содержание "Улица генералов: Попытка мемуаров" читать бесплатно онлайн.
Имя Анатолия Гладилина было знаменем молодежной литературы периода «оттепели». Его прозу («Хроника времен Виктора Подгурского», «История одной компании») читали взахлеб, о ней спорили, героям подражали. А потом… он уехал из страны, стал сотрудником радиостанции «Свобода».
Эта книга о молодости, которая прошла вместе с Василием Аксеновым, Робертом Рождественским, Булатом Окуджавой, о литературном быте шестидесятых, о тогдашних «тусовках» (слова еще не было, а явление процветало). Особый интерес представляют воспоминания о работе на «вражеском» радио, о людях, которые были коллегами Гладилина в те годы, — Викторе Некрасове, Владимире Максимове, Александре Галиче…
И вот обычный мой рейд в редакцию, без каких-либо надежд. Рутина. Смотрю, там как-то все поменялось. Во всяком случае, при моем появлении все высунулись из кабинетов и провожают меня взглядами. Я захожу к Мэри. Она говорит: «Толя, Катаев сказал, что под конец он даже всплакнул. Ну, он с юмором говорил, но сказал, что он даже вытер слезы. Сказал, что прекрасная вещь и вас будут печатать в девятом номере». И действительно, в сентябрьском номере 56-го года, мне как раз исполнился двадцать один год, вышла «Хроника времен Виктора Подгурского» в журнале «Юность». Тираж «Юности» был тогда, по-моему, 100 или 150 тысяч экземпляров.
Прямо скажем, такого общественного резонанса, как мои следующие вещи, или как первая повесть Анатолия Кузнецова, или «Коллеги» Аксенова, «Хроника» не получила. По-моему, всего было две рецензии на нее — в «Московском комсомольце» и в «Комсомолке». Такие сдержанные положительные рецензии, не более. Ну, появилась «Хроника» и появилась. Мне стали приходить на Литературный институт письма от читателей. Ну, приходят — я считал, что это вроде бы нормально. Но мне не передавали те письма, которые приходили в «Юность», а в редакцию приходило очень много писем, в том числе от таких людей (мне потом их назвали), как министр культуры Михайлов, актрисы Рина Зеленая, Фаина Раневская. Мне не передавали по той простой причине, что считали, что я слишком молодой, что я зазнаюсь, если узнаю, каким успехом пользуется «Хроника»… Хотя я обращал внимание, что в метро обязательно один или два человека читают мою повесть. Ну мало ли что? Читают и читают…
Потом было какое-то общее собрание в институте, и вдруг кто-то из студентов сказал: «Вы не заметили, что у нас есть такой студент, Анатолий Гладилин, который получает писем больше, чем все остальные студенты института вместе взятые?» А на адрес Литинститута если приходили письма, то они обычно лежали на отдельном столе. И все студенты, приходя на занятия, смотрели, есть тебе письмо или нет. И вот после «Хроники» каждый день писем мне приходило больше, чем всем остальным студентам. А им писали, естественно, не читатели, им писали родственники, любимые девушки, товарищи по армии — тут можно фантазировать.
Короче, говоря сегодняшним сленгом, я ничего еще не просек. Но однажды меня вдруг пригласили выступить с писательской бригадой в каком-то студенческом клубе. Я сначала подумал — зачем мне это? Но мне сказали, что заплатят 15 рублей. Для бедного студента — большие деньги. У нас стипендия была 22 рубля. И я поехал в этот клуб. Писательская бригада села в президиум, а я решил, что мне нечего делать на сцене, я сяду вместе со студентами. Ну, вызовут выступать — выйду. Сижу, смотрю, все как обычно: на сцене кто-то говорит, а студенты слушают вполуха, читают книжку или журнал или кроссворды решают. Потом объявляют: «А теперь выступит Анатолий Гладилин, автор…» Не успели даже сказать, автор чего, — зал вдруг встал и начал аплодировать. Бросили книжки, кроссворды, а я еще не вышел на сцену. Стал я что-то говорить, нес, наверное, какую-нибудь ахинею, но принимали каждое слово буквально на ура, была какая-то такая реакция зала, для меня совершенно неожиданная и фантастическая, что после этого я понял: да, видимо, моя «Хроника» имеет успех.
И еще по поводу денег. Заплатили мне за «Хронику» по самой низшей ставке. То есть в два раза меньше, чем обычным авторам. Опять же из принципа, что зазнаюсь. То есть вели воспитательную работу. А я, можно сказать, глава молодой семьи, мне деньги нужны. И за книгу, которая потом была издана, через два года, в «Советском писателе», тоже заплатили по самой низшей ставке из того же принципа — дескать, молодой, и нечего его баловать.
Письма от читателей, которые я получал за «Хронику», я хранил в большом-большом мешке. Через двадцать лет, когда я уехал в эмиграцию, мешок остался на квартире у мамы, где жила моя сестра. А тогда, после моей первой речуги в студенческом клубе, я еще год с охотцей выступал перед читателями и уже предвидел реакцию зала. Однажды я даже расстроился, потому что один, как мне показалось, очень серьезный молодой человек сказал: «Вы знаете что, Толя: обидно, но я никогда больше не буду читать ваши книги, потому что такую вещь, как „Хроника“, вы больше не напишете, лучше такой книги написать невозможно. Так что, извините, больше я вас читать не буду». Вот так вот.
Между прочим, с «Хроникой» мне действительно очень сильно повезло. «Хроника» была опубликована в сентябре, а два месяца спустя, после венгерских событий, вряд ли ее вообще бы напечатали. И еще повезло в том смысле, что на нее, я повторяю, практически не было откликов, потому что так называемая серьезная критика ее просто не заметила. И не было поэтому такого разгрома, какой учинили роману, который тоже имел очень большой читательский успех и «успех» у критики — «Не хлебом единым» Дудинцева.
…Я протырился тогда с двумя студентами на обсуждение Дудинцева в Союзе писателей. Там было все, естественно, подготовлено, штатные критики громили Дудинцева, а писатели сидели тихо, и только мы, трое студентов, подавали какие-то насмешливые реплики и даже пытались свистеть. И к нам оборачивались тихие писатели и шептали: «Шумите, шумите…» Потому что зал тогда был маленький, так называемый Дубовый зал, и все из президиума просматривалось, а мы, студенты, могли себе вроде бы что-то позволить. Потом первый секретарь Союза писателей Алексей Сурков долго сокрушался, что вот на обсуждение Дудинцева прорвалась какая-то окололитературная публика, которая хотела сорвать это обсуждение. А окололитературная публика была — ваш покорный слуга и еще два студента Литинститута.
Помню, как вдруг в зал, там, где президиум, из боковой двери вошел Константин Симонов. Зал ахнул: «Симонов! Симонов!» Потому что Симонов, тогдашний редактор «Нового мира», который напечатал «Не хлебом единым», был олицетворением прогресса, вообще смелости. Симонову сразу дали слово. И Симонов, который до этого все-таки защищал Дудинцева, начал говорить так: «Чем недоволен Дудинцев? Роман его напечатали. Ему заплатили гонорар. Даже книжка отдельная будет. Ну не таким тиражом, на который он рассчитывал, но все-таки будет. Почему он недоволен, что такое? Да, его критикуют. Критику надо принимать правильно. Значит, ошибся Дудинцев». Вот в таком плане.
После этого на трибуну вылез очень любимый потом мною человек, Володя Дудинцев, который просто стоял и плакал и не мог двух слов связать. Он ожидал, что его будут громить, но он не ожидал удара в спину от Симонова. И он что-то такое говорил, примерно так: «Симонов, ну он же мне как отец родной, ну почему же он так меня…» Он был совершенно раздавлен.
Изменилась обстановка в Союзе писателей. Изменилась атмосфера и в «Юности». И Катаев, любимый мой Валентин Петрович, тогда делал карьеру литчиновника, и я помню его доклад от лица московской писательской организации, по-моему, это был уже 58-й год: всё в духе, всё как надо. Он громил тогда сборник «Литературная Москва». И я думаю, этот Катаев «Хронику» бы не напечатал. Во всяком случае, он не принял вторую мою книгу, «Бригантина поднимает паруса». Между прочим, успехом «Хроники», грубо говоря, я не насладился, потому что мне говорили: «Ну подумаешь, первую-то книгу может написать любой дурак, а вот попробуй напиши вторую, тогда мы поймем, какой ты писатель». «Бригантина» у меня не получалась, но я старался, несколько раз ее переписывал… Мэри Лазаревна тоже старалась и, применяя ту же тактику, что и с «Хроникой», собирала положительные рецензии, но нужное количество так и не набрала. Я написал «Бригантину», вернувшись с одной из алтайских строек, и написал то, что увидел, как было на самом деле. «Бригантину» я считаю чисто художественно слабой книгой, но тот заряд достоверности, который я в нее вложил, очень чувствовался, и это вызывало отрицательную реакцию со стороны редколлегии. Я уж не говорю, что в «Советском писателе» «Бригантину» отрецензировали просто в форме доноса. Я не шучу — доноса чистой воды. Видимо, сказывалась инерция сталинских времен, когда вот такие внутренние рецензии пересылались куда надо и за писателем ночью приходили.
К чему я это все рассказываю? К тому, что у меня все остановилось, никакого продвижения вперед. И я задумал уйти из Литературного института. Тем более что там тоже стала поганая обстановка, началась «охота на ведьм», изгоняли студентов буквально за одно стихотворение, которое обсуждали на семинаре, и изгоняли уже не потому, что стихотворение плохое, а потому, что оно казалось антисоветским. В общем, на четвертом курсе я решил — а ну их всех к черту, дай-ка я пойду куда-нибудь в плавание матросом (то, что сделал потом Георгий Владимов). Хотелось, конечно, в какие-то дальние Аргентины…
Где-то к весне я сдал экстерном экзамены за четвертый курс, оставался пятый, это при том, что по академическим дисциплинам я был отличник, это мне легко давалось, а дипломную работу мне не надо было защищать, потому что у меня была повесть, опубликованная в центральном журнале — а это гарантированная «пятерка». В этом отношении я опередил даже Евгения Александровича Евтушенко и Роберта Рождественского, которые тоже уже печатались в центральных журналах и газетах, но больших публикаций у них еще не было. Словом, протяни я руку (ну да, некоторое усилие) — и диплом у меня в кармане. Но я гордо решил, что не нужен мне Литинститут и его диплом, а поеду-ка я куда-нибудь в интересное путешествие. Нам же тогда вдалбливали, что надо изучать жизнь, — и я ездил по Сибири, был в командировках, почему бы теперь не ознакомиться с заграничной суровой действительностью? Выглядит жутко смешно. Вроде бы взрослый человек, известный писатель, а мышление на уровне детского сада. Я же понятия не имел, что значит оформляться за границу, никогда с этим не сталкивался! Правда, я надеялся, что у меня есть какой-то блат — дядя моей жены был в Литве министром. Вот через Литву как-то всё устроят.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Улица генералов: Попытка мемуаров"
Книги похожие на "Улица генералов: Попытка мемуаров" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анатолий Гладилин - Улица генералов: Попытка мемуаров"
Отзывы читателей о книге "Улица генералов: Попытка мемуаров", комментарии и мнения людей о произведении.