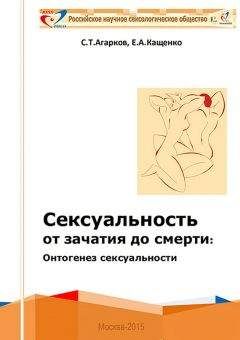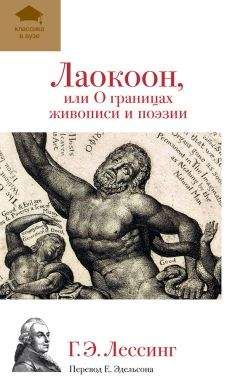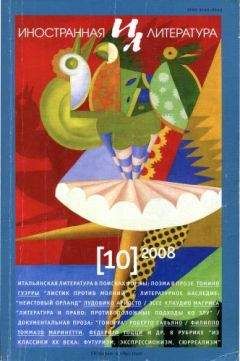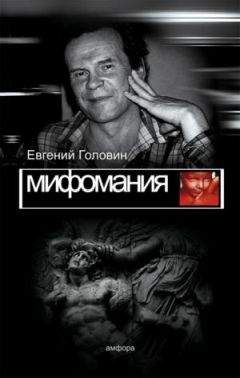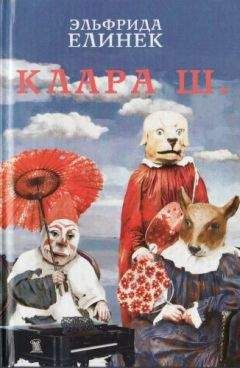Октавио Пас - Избранные эссе

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Избранные эссе"
Описание и краткое содержание "Избранные эссе" читать бесплатно онлайн.
В своих эссе мексиканский поэт, лауреат Нобелевской премии 1990 года Октавио Пас размышляет на множество острых и современных тем и ищет ответы на «вечные» вопросы: об одиночестве так называемого цивилизованного человека, об особенностях колониальной эпохи, о нелинейности времени, о современном искусстве — и прежде всего о живописи и поэзии — и о культуре и верованиях ацтеков, о природе поэтического языка, о глубинной несхожести эротики и сексуальности и о сродстве эротики и поэзии, об идеологизированности Достоевского и рассудочности маркиза де Сада — и о многом другом.
Царство субъективности начиналось критикой пророков; но в наивысшей точке своего развития субъективность сама преобразилась в пророчество и возвестила пришествие трех явлений, различных, но близких по смыслу: республики равных, бесконечного прогресса и царства сверхчеловека. Каждое из этих пророчеств по сути своей было критикой, иными словами, каждое из них было отражением критического духа, а их осуществление требовало активного вмешательства критики. Действительно, пролетарская революция, отбор видов и ниспровержение ценностей — явления критического порядка: они отрицают одно, чтобы утвердить другое. Расхождение с античностью весьма велико: аналогия созидает по принципу единства или соответствия противоположностей; критика осуществляется через уничтожение одного из крайних полюсов. Но то, что мы уничтожаем силой рассудка или власти, неизбежно возникает вновь и принимает форму критики самой критики. Наступающая ныне эпоха будет эпохой бунта упраздненных реальностей. Мы переживаем возврат времен.
И возврат времен, и универсальный бунт, что происходят на наших глазах, сначала проявились в искусстве. С момента зарождения современное искусство было искусством критикующим; его окрашенный страстью реализм был не столько верным портретом, сколько критикой реальности. Но с приходом символизма поэты и прозаики, не отказываясь от критики мира и людей, вводят в свои произведения критику языка, критику поэзии. Речь идет, как я уже отмечал, не о разрушении языка, а о воздействии на него, о стремлении открыть оборотную сторону языка, знаков. То же самое происходит в других видах искусства, и нет надобности вспоминать череду превращений, которые претерпели музыка, живопись и скульптура. Однако, чтобы проиллюстрировать мои соображения, приведу один пример. Прошлой весной я ходил по залам ретроспективной выставки Ричарда Гамильтона{140} в Галерее Тейт, и меня поразила и восхитила одержимость художника тем, что один из критиков назвал «обратным негативом». В одном из своих творений Гамильтон с помощью тонов, наложенных на узкие стеклянные пластинки, показывает зрителю путь от того, что мы называем «лицом», к тому, что мы называем «изнанкой». Пластическая и поэтическая игра, достойная Льюиса Кэрролла. Не случайно ведь имя Кэрролла зазвучало в разговорах о живописи. Вся современная живопись есть одновременно язык и критика этого языка. Картина представляет собой систему соответствий, значений и знаков, и каждая картина выступает и как анализ, и как критика себя самой. Современное искусство есть критика значения и попытка показать оборотную сторону знаков.
В последние годы два движения сотрясают Запад: революция тела и бунт молодежи. Оба они по истокам и сути своей близки революции в искусстве. По истокам? Оба движения можно назвать выражением или, лучше, взрывом подземного течения, которое зарождается с Уильямом Блейком и английскими и немецкими романтиками, ярко проявляется в XIX веке в произведениях таких поэтов, как Рембо и Лотреамон, вспыхивает в сюрреализме и сейчас, смешавшись с другими течениями, распространяется по всей планете. По сути? Оба движения, особенно революция тела, стремятся повернуть обратной стороной знаки, определяющие нашу цивилизацию: тело и душа, настоящее и будущее, наслаждение и труд, воображение и действительность. Чтобы показать, в чем смысл этого процесса, позволю себе вновь обратиться к Данте. В мире Данте время — прошедшее, настоящее и будущее — впадает в вечность. Так, в одном из самых впечатляющих эпизодов «Ада»{141} Фарината делли Уберти открывает поэту тайну: после Страшного Суда грешники будут лишены своей единственной привилегии — двойного зрения. И вот в чем причина: они не смогут предсказывать будущее, потому что будущего больше не будет. Мысль ужасная, невообразимая для современных людей: история, мораль и политика Запада с момента зарождения новой эпохи опираются на сверхоценку будущего. Цивилизация прогресса поместила свои геометрические райские сады не в иной мир, а в завтрашний день. Время прогресса, техника и труд есть будущее; время тела, время любви и время поэзии — сегодня. Первое — накопление, второе — трата. Революция тела (следовало бы сказать — возрождение тела) вытеснила будущее. Изменение знаков — изменение времен.
В поэме Данте сошествие в подземный мир предшествует восхождению в рай; мы знаем, что впереди у нас нет никакого рая ни по окончании истории, ни в ином мире. Поднимаясь вверх и спускаясь вниз, мы путешествуем по рассыпающемуся настоящему — исчезающей неизбежности.
Многие зададут себе вопрос: можно ли строить что-то на зыбучих песках настоящего? А почему бы и нет? Китайская цивилизация строилась по модели мифического прошлого, столь же вымышленного, как вечность средневекового христианства или будущее XIX века. Любое время ирреально, любое неприкосновенно: никому не дано коснуться завтрашнего дня, никто не может коснуться сегодняшнего. Любая цивилизация — метафора времени, один из вариантов изменения. Преимущество, которое несет в себе «сейчас», могло бы, пожалуй, примирить нас с той реальностью, что религия прогресса с не меньшим усердием, чем древние религии, попыталась скрыть и замаскировать: со смертью. Время любви — это время тела, но, видя любимое нами тело, мы видим также и его смерть (иначе мы бы его не любили). Тело желаемое и тело, испытывающее желание, чувствуют свою смертность; в настоящем любви, именно в силу его напряженности, заключено знание о смерти. Почему не вообразить цивилизацию, где люди, наконец способные без страха принять идею своей смертности, прославляли бы союз жизнь /смерть и видели бы в нем не два враждебных друг другу начала, но единую реальность? «Сейчас» — метафора изменения — разрушает прошлое и будущее, тем самым разрушает и себя. Разрушаясь, время переходит не в безмерную вечность, а в такую же безмерную длительность жизни.
Каждая эпоха выбирает свое собственное определение человека. Думаю, определение, выработанное нашим временем, таково: человек — передатчик символов. Среди этих символов есть два, начало и конец человеческого языка, его цельность и распад: объятие тел и поэтическая метафора. В первом символе — слияние ощущения и образа, фрагмент, ставший шифром всеобщности, всеобщность, расцепленная в ласках, которые превращают тела в источник мгновенных соответствий. Во втором — слияние звука и значения, союз явленного и чувственного. Поэтическая метафора и эротическое объятие — примеры мгновенного, почти совершенного совпадения между одним символом и другим, примеры того, что мы называем аналогией и чье подлинное имя — счастье. Такой миг — лишь смутное предсказание, предчувствие других, более редкостных и всеохватных мгновений: созерцания, освобождения, полноты, пустоты… Все эти состояния, от самых доступных и часто повторяющихся до самых сложных и совершенных, имеют нечто общее: умение отдаться, довериться течению, принести в дар свое «я», а если нужно — и вовсе забыть о нем. Длится ли такое мгновение век или секунду, оно безмерно. Это единственный, доступный всем людям рай, доступный при условии, что они забудут о себе самих. Мгновение величайшего сосредоточения и величайшего расслабления: мы — сверкание разбитого стекла, на которое пал луч полуденного солнца, мы — трепет темной травы под ногами, мы — скрип дерева в холодную ночь. Мы ничтожны, и все-таки нас принимает в свои объятия всеобщность, мы — знак, который кто-то подает кому-то, мы — канал передачи, через нас текут одни языки, и наше тело переводит их в другие. Двери открываются настежь: человек возвращается. Мир символов — это и мир чувств, ощущений. Лес значений — место примирения.
Перевод: словесность и дословность[33]
Выучиться говорить — значит выучиться переводить: когда ребенок спрашивает у матери, что значит то или иное слово, он хочет, в сущности, чтобы она перевела на его язык непонятное сочетание звуков. В этом смысле перевод в пределах одного языка ничем принципиально не отличается от перевода с одного языка на другой, и детский опыт повторяется в истории любого народа: даже племя, затерянное в самой глухой глуши, должно будет рано или поздно соприкоснуться с наречием неизвестного ему племени. Удивление, негодование, ужас или веселое недоумение, которое мы испытываем при звуках неведомого языка, незамедлительно преображается в сомнение, относящееся к тому языку, на котором мы изъясняемся. Речь утрачивает свою всеобщность, выявляет себя во множественности языков, причем все они чужды и непонятны друг другу. В прошлые времена перевод рассеивал такого рода сомнение: если нет всеобщего языка, то языки хотя бы образуют всеобщее содружество, в пределах которого они, преодолевая определенные трудности, достигают взаимоосмысления и взаимопонятности. И они взаимопонятны, поскольку на разных языках люди всегда говорят одно и то же. Всеобщность духа оказалась ответом на вавилонское смешение: языков много, смысл один. Паскаль во множественности религий усматривал доказательство истинности христианства; на разнообразие языков перевод отвечал идеалом всеобщности понимания. Таким образом, перевод был не только еще одним доказательством единства духа, но и его гарантией.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Избранные эссе"
Книги похожие на "Избранные эссе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Октавио Пас - Избранные эссе"
Отзывы читателей о книге "Избранные эссе", комментарии и мнения людей о произведении.