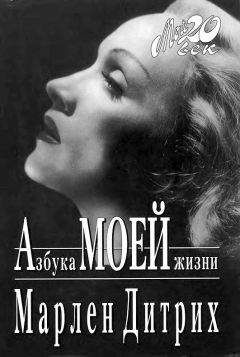Митрополит Евлогий Георгиевский - Путь моей жизни. Воспоминания Митрополита Евлогия(Георгиевского), изложенные по его рассказам Т.Манухиной

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Путь моей жизни. Воспоминания Митрополита Евлогия(Георгиевского), изложенные по его рассказам Т.Манухиной"
Описание и краткое содержание "Путь моей жизни. Воспоминания Митрополита Евлогия(Георгиевского), изложенные по его рассказам Т.Манухиной" читать бесплатно онлайн.
Высокопреосвященнейший Митрополит Евлогий (Георгиевский) (1868–1948) — выдающийся церковный деятель, богослов, жизненный путь которого от обучения в духовной школе до Митрополита, Предстоятеля Православных Русских Церквей в Западной Европе, свидетельствует о его глубокой преданности Церкви и Отечеству.
В своей книге Митрополит рассказывает о жизни русского духовенства дореволюционной поры, II и III Государственной думе, своем участии в работе Св. Синода, революциях 1905 и 1917 гг., 1-й мировой и гражданской войнах, пребывании в петлюровском плену, русском религиозном возрождении за границей и становлении зарубежной церковной жизни.
Много страниц уделяется в книге жизни Святейшего Патриарха Тихона, работе Поместного Собора 1917–1918 гг., взаимоотношениям с Патриархом Сергием, митрополитом Антонием (Храповицким) и многим важнейшим событиям религиозной и общественной жизни конца XIX — первой трети XX столетия.
В России книга издается впервые.
Епископы удалились из храма, а я с жезлом в руке благословлял народ. Бесконечной чредой все подходили и подходили молящиеся под благословение… По окончании этого обряда меня ввели в архиерейский дом; мне пропели "Ис полла эти деспота…".
Я приготовил обед на 70–80 персон. Столы были накрыты не только во всех приемных комнатах архиерейских покоев, но и в помещении нижнего этажа — для "братчиков", для певчих… Весь дом превратился в ресторан. За главным столом заняли места высшее духовенство и почетные гражданские и военные лица; тут были и генералы из Люблина, и корпусный командир, и начальник дивизии… У нас, в Западном крае, мясо монашествующим было позволено, в России — нет. Архиепископ Иероним и Гродненский епископ Иоаким его вкушали, а преосвященный Антоний от мясного воздерживался. Я дал распоряжение эконому, чтобы за главным столом подавали рыбное. Эконом схитрил — в мясной бульон пустил карасиков. Преосвященный Антоний попробовал и говорит: "Суп-то стервый…" А архиепископ Иероним мягко: "Не углубляйтесь…" Обед прошел с подъемом, с изобилием речей. Длился он так долго и так утомил престарелого архиепископа Иеронима, что его в изнеможении увели отдохнуть и давали капли. После обеда я развел усталых архиереев по комнатам, но остальные гости еще долго не расходились и, кто в столовой, кто в гостиной, продолжали оживленно беседовать. Мне облили новую рясу ликером: семинарский доктор, по случаю праздника наугощавшийся, расплескал на меня всю рюмку, изливая мне свои добрые чувства.
Вечером был чай; собрались все мои друзья, люблинские, варшавские и холмские. Должен отметить единодушное участие в празднике преподавателей семинарии, их старание разъяснить населению значение торжества: один из них Ф.В.Кораллов издал ко дню моего посвящения специальную брошюру.
Моя хиротония, вероятно, потому, что она была в Холмщине первой, действительно обратилась в народное торжество. Многие потом этот день вспоминали с чувством духовной радости. Думаю, что идея моего посвящения в Холме принадлежала Саблеру. Благодаря соучастию народа между мною и паствой возникла мистическая связь, которая должна была остаться до конца. В те времена применялась система переброски архипастырей: опала или благоволение проявлялись часто в перемещениях с одной кафедры на другую. Эта система — неканоническая и вредная во всех отношениях. Моим горячим желанием было связаться с Холмщиной пастырскими узами до конца жизни. Быть всю жизнь епископом Холмским, как епископ Николай был — Японским; мне этого хотелось всей душой.
Наутро после хиротонии я, согласно правилу, должен был служить обедню в Крестовой церкви (имени святителя Михаила, первого митрополита Киевского) при архиерейском доме. Домовые церкви в архиерейских домах были устроены так, что они либо непосредственно примыкали к столовой, либо имели вход из моленной. К Литургии собрались все епископы. Мне много приходилось служить с архиереями, порядок архиерейской службы я усвоил, и обедня прошла благополучно, без ошибок.
Днем я поехал на "чай" в семинарию. Там вновь поздравления, речи…
После пережитых волнений наступила реакция — мне хотелось остаться одному, обдумать все впечатления, разобраться в них. Гости скоро все разъехались.
Вскоре после хиротонии архиепископ Иероним пригласил меня к себе. "Я хочу вас представить Варшаве", — писал он. (Ректора семинарии архимандрита Дионисия он пригласил тоже.) За мной был прислан особый салон-вагон; владыка Иероним устроил мне торжественную встречу, собрал видных представителей гражданских, военных и учебных русских властей, со всеми меня знакомил, предложил служить в соборе… Его отеческая любовь проявлялась в стремлении мне содействовать, меня опекать и награждать: в этот приезд он мне подарил рясу и посох. Я провел в Варшаве дня три-четыре и, сделав необходимые официальные визиты высшим гражданским и военным чинам, вернулся в Холм под впечатлением варшавских дней, которые дали мне почувствовать, что я в Западном крае "важная особа".
Трудовые будни моей епископской жизни начались с ознакомления с новой сферой деятельности.
Консистории в Холмщине не было, холмский викариат зависел от Варшавского Епархиального управления, но ввиду особого характера местной народной жизни ему дана была некоторая, хоть и ограниченная, самостоятельность, и существовало свое Духовное правление. В противоположность Холмщине, паства Варшавской епархии состояла не из местного, коренного населения, а пришлого из России: служащих всех ведомств государственного аппарата, войсковых частей и проч. — словом, из людей "перелетных". Наше Духовное правление рассматривало местные церковные дела; викарий с его заключениями соглашался (или не соглашался), а окончательное утверждение они получали лишь в Варшавской консистории, куда все дела и отсылались. Там нас варшавские отцы иногда поправляли, а иногда наши решения отклоняли. Случалось, возникали недоразумения. Особого самолюбия у меня не было, но я не мог не дать себе отчета, что в некоторых делах, главным образом униатских, было уже много напутано; что решения выносились не в свободном духе веры, а иногда и по соображениям бюрократическим. Чиновники решали дела согласно букве закона, приказа, правила, не считаясь с народом, лишь бы только послать донесение в Петербург, что с православием в Холмщине все обстоит благополучно. В действительности с Православной Церковью обстояло совсем не благополучно. До 100000 "православных" в душе оставались униатами… Официально уния была упразднена в 1875 году государственным законом, но веру в душах закон упразднить не мог, и в некоторых местностях православные храмы пустовали, и к священнику народ за требами не обращался. Были приходы, где до 90 процентов населения бойкотировало православные церкви и, не имея своих, униатских, оставалось без церкви. Этих непримиримых называли "упорствующими". Они были подлинной язвой на теле Холмщины. Беду эту я сознавал и очень скорбел. А что предпринять? Как эту язву лечить? Свободы вероисповедания в России тогда еще не было, уния была упразднена 28 лет тому назад, а время ничего не изменило, конфликт не разрешался, православие по всей линии не торжествовало. Наоборот, чем дальше, тем все чаще и чаще поступали прошения об отпуске в лоно католичества. Наша канцелярия была завалена подобными прошениями. Правила, которыми надо было руководствоваться при их рассмотрении, были формальные: кто были предки? Если они были католики, разрешить просителю вернуться в католичество можно; если униаты — нельзя. Прочитаю, бывало, прошение и не знаю, что ответить на основании формальных вопросов: ходил дед в костел — не ходил? а где отец бывал на богослужениях? и т. д. Мучительно-тягостно было это бюрократическое дознание, решавшее судьбу верующей души… А тут еще вскрылось, что консисторские чиновники за отпуск в католичество брали взятки. Это уж окончательно запутывало дело.
Одновременно с церковно-административными делами мне приходилось знакомиться с учебными заведениями и с полками местного гарнизона. Везде надо было появляться, везде надо было что-нибудь сказать, вникая в разнообразные нужды паствы. А там подошел и Великий пост с соответствующими покаянным дням проповедями.
После Пасхи я решил начать епископский объезд приходов. Справился, какая часть Холмщины дольше всего не видела епископа, и направился в Замостский уезд. Я выехал после посевов, но до сенокоса и до праздника святителя Николая Чудотворца, — в те пасхальные дни, когда праздничное настроение еще не угасло.
Замостский уезд считался одним из наиболее ополяченных — в нем было много "упорствующих". Почти весь уезд принадлежал графу Замойскому. Великолепные "латифундии" польского магната. Культурные, чудные имения, охоты, заповедные рощи, замок… — все было поставлено на широкую ногу. "Латифундии" обрабатывались рабочими, которых помещичья администрация расселяла на хуторах (фольварках). Тысячи народа материально зависели от могущественного работодателя, и, разумеется, окормлять в польском духе людей материально зависимых непосильной задачи не представляло. В уезде были прекрасные, богато устроенные костелы, а православные церкви систематически приводились в состояние полного упадка. Запущенные, развалившиеся, с соломенными крышами, на которых иногда аисты вили себе гнезда, — вот какую печальную картину являли в уезде православные храмы… Тут проводилась уж не уния, а шел планомерный и непрерывный натиск католичества и неразрывно связанная с ним полонизация.
В Западном крае крестьян освободили в 1863–1864 годах и освободили без земельного выкупа, т. е. условия освобождения были лучше, чем в России. Мало того, учитывая католические и полонизаторские посягательства помещиков на крестьянство, русское правительство старалось ему помочь и обложило "панов" сервитутом, своего рода данью в пользу народа. Эта помещичья повинность была источником бесчисленных пререканий между обеими сторонами. Виды сервитута были разные: 1) лесной — ежегодно на ремонт церквей помещик обязан был давать 1–2 дерева, согласно исконной традиции, по которой местные "паны" считались попечителями (прокураторами) окрестных церквей. Эту повинность помещики старались обойти: назначит на сруб дерево за 10 верст, — кто за ним поедет! 2) дровяной сервитут — давал крестьянам право вывозить из помещичьих лесов сухостой и валежник. Дабы оградить помещиков от злоупотреблений, закон разрешал крестьянам отправляться в леса за дровами "без топора". Крестьяне роптали: "Без топора! Что мы, медведи? Как же нам без топора?" Но как было их пускать с топором? Они подрубали деревья, дабы на следующий год иметь побольше сухостоя… Их обвиняли в плутовстве — они оправдывались: "Да нет… да это не мы… разве мы стали бы…" и т. д. 3) пастбищный сервитут — обязывал помещиков предоставлять крестьянам, для пастбищ их скота, свободные от посевов луга и жнитво; но этот закон они старались обойти и окапывали свои луга широкими канавами: скотине и не перескочить.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Путь моей жизни. Воспоминания Митрополита Евлогия(Георгиевского), изложенные по его рассказам Т.Манухиной"
Книги похожие на "Путь моей жизни. Воспоминания Митрополита Евлогия(Георгиевского), изложенные по его рассказам Т.Манухиной" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Митрополит Евлогий Георгиевский - Путь моей жизни. Воспоминания Митрополита Евлогия(Георгиевского), изложенные по его рассказам Т.Манухиной"
Отзывы читателей о книге "Путь моей жизни. Воспоминания Митрополита Евлогия(Георгиевского), изложенные по его рассказам Т.Манухиной", комментарии и мнения людей о произведении.