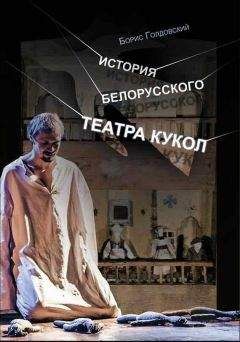Макс Дворжак - История искусства как история духа

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "История искусства как история духа"
Описание и краткое содержание "История искусства как история духа" читать бесплатно онлайн.
Книга выдающегося австрийского искусствоведа Макса Дворжака (1874-1921) — классическое исследование средневекового европейского искусства, не утратившее своего значения и по сей день. Автор рассматривает средневековую культуру как целостный феномен, уделяя много внимания философским и историко-социологическнм аспектам искусства Средневековья. Среди глав книги: «Живопись катакомб: начала христианского искусства, «Идеализм и натурализм в готической скульптуре и живописи», «Питер Брейгель старший» и др. Книга впервые издается в полном составе.
Равным образом невозможно объяснить весь этот исторический процесс, из которого проистекает новое отношение к природе или, другими словами, открытие природы и человека, как это обычно называют, как некое обретение самостоятельности новыми народами по отношению к церковной жизни или как независимое от этого светское ренессансное движение человечества. Об этом не может быть и речи, так как новое всецело коренится в христианском спиритуализме средневекового мира, без которого новое художественное восприятие было бы столь же мало представимо, как и новая наука, новая поэзия, новое мирское, социальное осознание долга или новая светская жизнь чувств. Хотя на основе невероятно сложного исторического развития и происходит определенная секуляризация духовных сил, но не в противоречии с религиозной культурой средневековья, а исходя из ее основ и в ее рамках; и такие определяющие точки зрения как новое значение духовной личности и новое восприятие природы покоились на тех линиях развития, что не могут быть отделены от той перестройки человечества, что нашла свое выражение в христианстве.
Ясно, что с такой переменой должно было быть связано далеко идущее преодоление традиционных образных представлений. В то время как в предшествующем периоде мотивы изображения были ограничены определенными старыми циклами, которые расширялись или сжимались и многоразлично редактировались вновь, но всегда проходили в крайне ограниченном кругу образных представлений (который был ясно беднее, чем его ранние христианские предпосылки), начиная с середины XII века это ограничение пропало, и новый мир фантазии в необозримой, казалось, полноте влился в искусство. Не только были заново пересмотрены старые мотивы изображения, но были изобретены и новые, к которым присоединились многочисленные новые эпические и лирические, религиозные и светские темы. Тематическое обогащение искусства было не менее велико, чем то, которое произошло в XIX в. по отношению к искусству ренессанса и барокко, только с той разницей, что расширение изобразимого коснулось менее предметности природного наблюдения (хотя и здесь произошел большой переворот), нежели литературно-повествовательного элемента. Все средневековое искусство имело, как часто справедливо указывалось, сильно выраженный литературный и иллюстрированный характер[62]; и это было вполне естественно, что в той мере, как менялся и расширялся круг литературных интересов, как церковная и светская литература оказывалась пропитанной новым расцветом жизни фантазии, это находило свое выражение также и в изобразительном искусстве. Речь при этом идет не только о потребности снабжать новые произведения иллюстрациями, но также и о самостоятельном параллельном явлении. Бесконечные рассказы картин на стекле были церковным вариантом рыцарских романов. Но все-таки зависимость от литературного круга мыслен была не только в изображениях исторических или поэтических событий, но и в каждом изображении природы и жизни или в передаче отдельных объектов[63]. Без сомнения, не случайно, что между великой энциклопедией средневекового знания, «Зерцалом» Винцента из Бовэ, и поздними средневековыми изобразительными темами налицо величайшее соответствие; общий корень лежит в основе школьной книги и распространенных предметов изображения[64]. Не чувственные впечатления и первичные образные представления, как в античности, а теоретическое знание и почерпнутое из литературных источников образование были исходной точкой великого тематического обогащения, которое совершилось в готическом искусстве XII и XUI вв. И указало путь не только ему, но и всему дальнейшему ходу развития европейского искусства. В отличие от древневосточного и классического искусства, — где область художественного изображения с самого начала была ограничена определенными материальными отношениями и художественными проблемами, — европейская художественная жизнь приобрела в этом как почти безграничную программу, так и научно распространенную основную черту, вначале, пожалуй, выражавшуюся только в наивном расширении интересов, но потом переродившую все понятие художественного.
Еще более радикально, чем выход за пределы традиционных мотивов изображения, было преодоление традиционного формального восприятия. Это преодоление можно установить даже в самых неблагоприятных случаях, например, даже там, где, — как, например, в изображениях Христа или мадонны, — налицо был в качестве образца издревле принятый, как бы освященный тип, оказывавший в предшествующие эпохи самое большое сопротивление каждому изменению.
В то время как романское изображение Марии или Христа ясно представляется звеном развития как во всем типе, так и в трактовке одежды, форм тела, в рисунке и моделировке, в отношении между формой и плоскостью, между светом и тенью (развития, генеалогическое древо которого может быть прослежено вплоть до античности), в готическом искусстве эта непрерывность совершенно теряется, и если традиционная композиция иногда и сохраняется, то все же формы и решения, которые оно подсказывает художникам, оказываются новыми. Они покоились больше не на традиции, а на новом самостоятельном восприятии природы. Это совершенно ясно в изображениях, которые более или менее независимы от старых образных идей.
Вместе с перенесением акцента в отношениях между художником, природой и произведением искусства сделалось необходимым также изменение и в отношении формальных проблем, в том, что составляет вопрос о «как» в изображении природы. Решающие моменты субъективного восприятия и наблюдения должны были сыграть большую роль также в передаче формы и всех формальных и пространственных соотношений.
В качестве верного природе воспринималось не познание природы, поднятое до степени нормы, понятия и совершенства формы, а единичное наблюдение и индивидуально характерное. Таким образом, вместе с готикой победила не только предметно — по своему духовному содержанию, — но одновременно и стилистически — до последней линейной черты — Другая, новая верность природе, которая, несмотря на многие кажущиеся отступления, на все времена безоговорочно преодолела античность. Не в отдельных формальных или предметных достижениях или прогрессе, а в этом основном факте, решающем для всего будущего культурной сферы Запада, заключается значение нового готического натурализма. Подобно тому как в греческом искусстве по отношению к древневосточному, так и в готике достигло победы новое, коренным образом отличающееся от классического восприятие природы. Новое человечество, вышедшее из величайших духовных переворотов, заново начало, исходя из новых точек зрения и духовных интересов, художественно открывать природу. Развитие искусства нового времени нельзя понять, если постоянно не иметь это перед глазами.
Можно было бы, конечно, спросить, почему этот новый натурализм, влияние которого можно наблюдать во все последующие времена и который может быть нами назван индивидуально-рецептивным, почему в готическую эпоху он, несмотря на то, что он был абсолютно преобладающим в том, что касается наблюдения природы, все же не достиг полного развития помимо ограниченных начинаний? Это объясняется его уже раньше отмеченными трансцендентно-идеалистическими предпосылками. Ведь над миром чувств, над жизнью, над верностью природе и радостью от нее в нашем значении этого слова везде стояло еще и откровение, сфера надмирной, религиозной отвлеченности, бытие, которое следует не тем законам, что познаются чувствами и поддаются пониманию, бытие, которое нельзя мерить только преходящими мирскими ценностями[65]. И искусство должно было приближаться именно к этому вечному и беспорочному над-миру, должно было поднимать его до уровня зрителя. Возвышать не только через идеальную абстракцию, как это было в предыдущий период христианского искусства, когда тело и дух шли раздельными путями, но через соединение духовного содержания с обусловленным и ограниченным им чувственным воздействием идеальной и телесной красоты, при должном господстве первой.
Так, изображение Марии должно было быть большим, нежели только отображением красивой женщины, по-человечески любвеобильной матери; она одновременно должна была в бессмертной отвлеченности воплощать сверхземную благодать матери Бога. Когда апостолы и мученики характеризовались как духовные личности, то в основе этой характеристики наряду с натуралистическими вспомогательными средствами лежало также стремление наглядно показать зрителям представителей метафизически абсолютной, вечной, святой общины. Дело при этом касалось не только поучительных целей (на что привыкли односторонне указывать), не только написанной или высеченной из камня теологии и церковного воспитания человека, но и — в не меньшей мере — созданий фантазии, в которых бы оказались сконцентрированными до степени образных идеальных фигур человекоподобные религиозные представления. Средневековые образы представляются нам менее новыми, чем греческие, потому что они не были, как последние, новыми иконографически, а по большей части восходят к старым, часто также античным замыслам. И все же они были новы, как и новое восприятие природы! В их основе лежало в корне отличное от античного понятие идеальности, исходной точкой которого была не метафизическая проекция чувственного опыта, как в греческом искусстве, но в котором, наоборот, общая значительность художественных результатов чувственного опыта устанавливалась согласно ее отношению к сверхчувственным духовным ценностям. Как мало внимания обращали на эпохальную значимость этого факта! Чувственная форма в искусстве как адекватное выражение абстрактных психических событий, им подчиненная, согласно им идеализированная — какое богатство новых горизонтов, бесконечно новых возможностей художественной концепции и воздействия было в этом заключено! Классическое искусство могло достичь высокого расцвета, объективируя телесную и космическую закономерность, красоту и гармонию в определенных созданиях фантазии. Оно могло добиться глубокого влияния на жизнь, но в его чувственном объективизме заключено было также ограничение, которое рано или поздно должно было обозначить конец подъему. В чистом спиритуализме поздней античности и раннего средневековья снова налицо была опасность для искусства — потерять в конце концов всякую возможность движения дальше, движения, коренящегося в чувственном переживании, в живом восприятии и опыте. Этим обеим основным системам художественного идеализма позднее средневековье противопоставляет третью, повышая объективную правду и красоту материальной формы до степени послушного выражения «сверхматериальных» духовных ценностей, всеобщей и индивидуальной борьбы за идейный и этический прогресс человечества.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "История искусства как история духа"
Книги похожие на "История искусства как история духа" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Макс Дворжак - История искусства как история духа"
Отзывы читателей о книге "История искусства как история духа", комментарии и мнения людей о произведении.