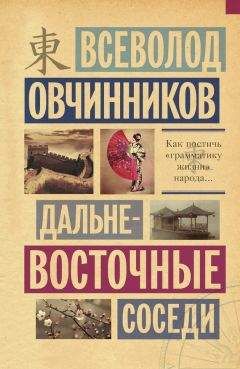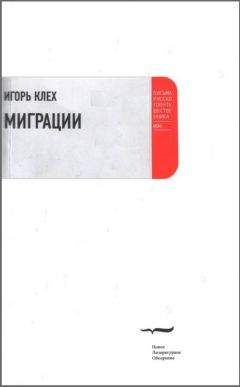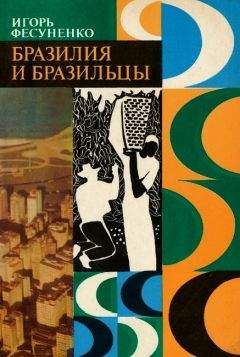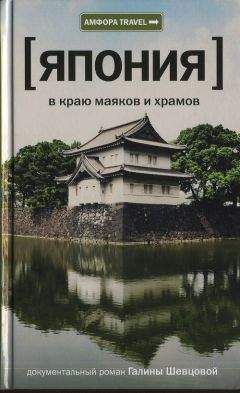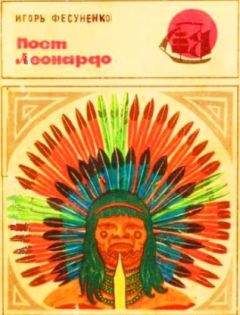Игорь Латышев - Япония, японцы и японоведы
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Япония, японцы и японоведы"
Описание и краткое содержание "Япония, японцы и японоведы" читать бесплатно онлайн.
Будучи в Японии, я между прочим постоянно покупал новые книги и пополнял свое досье газетными и журнальными вырезками, а также книжными публикациями по нескольким возможным темам моей будущей работы в Москве. В первую очередь я предполагал тогда работу по подготовке обновленного второго издания моей книги "Семейная жизнь японцев". Но не исключал я возможности и разработки той темы, которой во время моего длительного пребывания в Японии мне приходилось заниматься постоянно, неоднократно посвящая ей свои публикации в "Правде" - темы территориального спора Японии с нашей страной.
При этом я был уверен в том, что разработку задуманных мною в Японии тем мне предстояло вести в рамках отдела Японии - того подразделения института, которое возглавлялось мной в общей сложности на протяжении четырнадцати лет. Да и о каких других из отделов института могла по моим понятиям идти речь, если на протяжении всей своей предыдущей сорокалетней научной и журналистской работы я писал и статьи, и книги лишь об одной стране - Японии и прожил в этой стране, если суммировать все сроки моего пребывания там, почти 15 лет.
Но изменение ситуации в России, как мне вскоре стало ясно, привело тогда к большим переменам и в стенах института. Приход к власти "демократов" во главе с Б. Ельциным повлек за собой кадровые перетряски не только в министерствах и прочих государственных ведомствах, но и во многих академических учреждениях, особенно в тех, которые занимались общественными науками и были связаны с ЦК КПСС. В таких институтах после августовского переворота 1991 года влияние повсеместно обрели перевертыши, объявившие себя давними сторонниками антикоммунистической, антисоветской, антисоциалистической идеологии. Подвергая огульному очернению все, что было сделано советской властью, они стали хором одобрять курс Ельцина и его окружения, радикальные реформы экономического и политического устройства страны, включая и реформы внешней политики. Под их нажимом сочли за лучшее поспешно поменять свою политическую ориентацию и многие ученые-обществоведы старшего поколения, возглавлявшие отдельные академические учреждения. Правда, так поступили не все: некоторые из прежних руководителей гуманитарных институтов Академии наук не проявили готовности к быстрому отказу от своих прежних марксистских взглядов. По этой причине им пришлось покинуть свои посты и отойти в тень. Но таких оказалось на удивление мало. Подавляющее большинство наших академических светил обнаружили потрясающее умение мимикрировать и плавно встраиваться в проамериканскую, прозападную идеологию тех, кто захватил в это время бразды политической власти и кого еще года три-четыре назад было принято называть "диссидентами", "антисоветчиками" и "буржуазными идеологами".
С подобными переменами я столкнулся и в стенах своего Института востоковедения. Симптомы тому обнаружены были мною в первой же беседе с тогдашним директором Института востоковедения Михаилом Степановичем Капицей, который прежде, в бытность его заместителем министра иностранных дел, всегда казался мне откровенным и решительным сторонником великодержавного подхода к проблемам взаимоотношений Советского Союза с соседними странами Азии. В памяти моей оставалась его лекция на собрании сотрудников института, с которой он выступил в 1980 году вскоре после ввода советского воинского контингента в Афганистан. Отвечая на вопросы присутствовавших на лекции о перспективах развития событий в названной стране, он твердо и уверенно заявил: "Не беспокойтесь, друзья! В Афганистан вошла русская армия, а русская армия работает хорошо. Все будет в порядке". Решительно отвергал Капица в начале 80-х годов и любые попытки японских дипломатов заводить разговоры по поводу своих территориальных притязаний к Советскому Союзу.
В декабре 1991 года в его отзывах о всем том, что происходило в те дни в нашей стране (по времени моя беседа с ним состоялась где-то в первые же дни после роковых решений, принятых Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем в Беловежской пуще), я не услышал присущих ему прежде четких и категорических суждений. В беседе со мной он предпочел не затрагивать тех острых политических проблем, с которыми столкнулась в те дни наша страна.
Неожиданную для меня нерешительность проявил он и в отношении моей просьбы о зачислении меня в отдел Японии института в соответствии с его же собственными предложениями, неоднократно повторявшимися им при встречах со мной во время его приездов в Токио.
- В институт я вас зачислю,- сказал он мне в той же беседе,- хотя теперь ваша работа в "Правде" стала восприниматься кадровиками как минус в вашей биографии. А вот с отделом Японии возникла проблема. Ведь отделом заведует теперь Саркисов, а у него на вас обиды: вы, будучи корреспондентом "Правды", вроде бы нелестно отзывались не только о Козыреве и Кунадзе, но и о нем. Так ведь было дело? А теперь, узнав о том, что вы вернулись в Москву, он молит меня не зачислять вас в его отдел. Как тут мне быть? Стоит ли и вам связываться с ним? Может быть, спокойнее было бы вам работать в другом отделе?
С ответом я не медлил:
- Если мне будет разрешено заниматься проблемами современной Японии в каком-либо другом отделе института, то вопроса нет. Для меня важно продолжить работу по изучению политических проблем Японии, включая историю и современность, а личность моего будущего начальника мня не страшит. Лишь бы он не чинил препятствий моей работе как японоведа и давал мне возможность публиковать мои взгляды.
Спустя дня два-три Капица сообщил мне о зачислении меня в штат научных сотрудников отдела комплексных международных проблем, возглавляемого профессором Хазановым Анатолием Михайловичем - интеллигентным человеком, мало связанным с японоведением, тактичным в общении со своими коллегами и вполне терпимым к чужим взглядам, подчас противоположным его собственным. Так состоялось мое третье по счету возвращение в Институт востоковедения после пятилетнего пребывания в Японии на журналистской работе.
Конечно, закулисное противодействие Саркисова моему зачислению в отдел Японии я воспринял как оскорбление. Ведь когда-то, в середине 60-х годов, ранее не знакомый мне выпускник Ленинградского университета Костя Саркисов приехал летом в Москву, позвонил мне на квартиру, а затем пришел в мой дом и попросил моего содействия как заведующего отделом Японии о зачислении его в аспирантуру института. Ознакомившись с красным аттестатом этого целеустремленного и одаренного, как мне показалось, армянского юноши, я тогда поверил в него и изъявил готовность поддержать его кандидатуру. Вскоре я обратился в дирекцию института с соответствующим ходатайством и получил согласие на выделение отделу дополнительного аспирантского места по специальности "новейшая история Японии". Взял я тогда же на себя и обязанность научного руководителя Саркисова. Мною была подсказана и хорошая, незаезженная тема для его диссертации - "Япония и ООН". Как-то раз при кратковременной поездке в Японию я подобрал в книжных магазинах Токио и привез ему новые книги по названной теме... Хлопот же с ним на первых порах оказалось больше, чем с другими аспирантами: получив в Ленинградском университете в основном филологическое образование, мой новый подопечный долго не мог перестроиться и приспособить свое мышление к требованиям, предъявляемым историкам и политологам. Поэтому его первые рукописные материалы потребовали от меня гораздо большей правки, чем рукописи других начинавших научную работу авторов. Помогал я Саркисову и в его бытовых делах: по моему ходатайству директор Института востоковедения Б. Г. Гафуров помог Саркисову получить московскую прописку, что в те времена было для большинства иногородних аспирантов недостижимой мечтой.
Однако, став после защиты диссертации сотрудником отдела Японии, мой бывший аспирант обнаружил интерес не столько к научной работе как таковой, сколько к частым поездкам в Японию с различными делегациями в качестве переводчика японского языка. Позднее же с еще б(льшим удовольствием в соответствии со вступившим тогда в силу соглашением между ИВАНом и МИД СССР он выехал на три года в Токио на работу в советском посольстве в качестве первого секретаря, ответственного за культурные связи с японской общественностью.
Ко времени моего отъезда в Японию в 1987 году больших успехов в своих научных изысканиях Саркисов так и не достиг. При назначении на пост заведующего отделом Японии Института востоковедения весь багаж опубликованных им трудов ограничивался одной упомянутой выше книгой, написанной в качестве кандидатской диссертации под моим научным руководством, и несколькими статьями по вопросам международных отношений в АТР. Но зато к тому времени Саркисову удалось расположить к себе такого влиятельного академического босса как бывший директор нашего института, а в те дни директор ИМЭМО Е. М. Примаков. Именно по его звонку Г. Ф. Ким, временно возглавлявший дирекцию института, и назначил Саркисова моим преемником. А дальше его научная карьера пошла быстро в гору. Став руководителем крупнейшего японоведческого центра нашей страны, этот скороспелый, легковесный, но говорливый научный деятель сумел на волне горбачевской "перестройки" обрести вскоре имидж "ведущего советского японоведа". Его любимым коньком стала в те дни этакая "смелая" идея "улучшения советско-японских отношений" путем односторонних уступок нашей страны необоснованным и незаконным притязаниям японцев на территории четырех южных Курильских островов.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Япония, японцы и японоведы"
Книги похожие на "Япония, японцы и японоведы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Игорь Латышев - Япония, японцы и японоведы"
Отзывы читателей о книге "Япония, японцы и японоведы", комментарии и мнения людей о произведении.