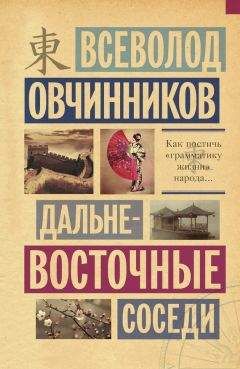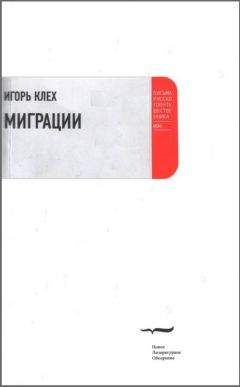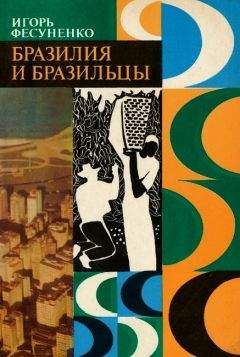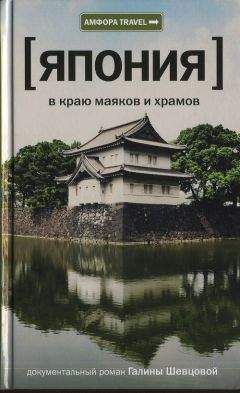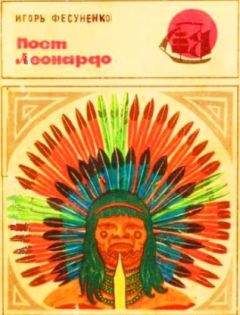Игорь Латышев - Япония, японцы и японоведы
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Япония, японцы и японоведы"
Описание и краткое содержание "Япония, японцы и японоведы" читать бесплатно онлайн.
И речь идет не только об академике Н. И. Конраде. В отрыве от отдела Японии вели свои работы в институте и некоторые другие японоведы-филологи, занимавшиеся историей японской литературы, а также лингвистикой. В этой связи хотелось бы коснуться научной деятельности Анны Евгеньевны Глускиной - одной из бывших учениц Н. И. Конрада. В те годы Институт востоковедения АН СССР стал ее основным местом работы, а главной темой ее научных изысканий стал знаменитый литературный памятник Японии - антология древней японской поэзии "Манъёсю".
Как помнится мне, включая эту работу в научный план института, его дирекция явно недооценила тех трудностей, с какими неизбежно должен был столкнуться исследователь-переводчик при работе над этим колоссальным по объему и крайне сложным для перевода текстом названной антологии. Поэтому работа, порученная Анне Евгеньевне, потребовала гораздо больше времени, чем это было записано в планах. Прошло более десяти лет сверх установленного срока, прежде чем названная работа А. Е. Глускиной была завершена. А издана она была лишь в 1971 году. Но зато результаты ее труда вызвали общее одобрение читателей. Анна Евгеньевна не только перевела тысячи коротких древних японских стихов на современный русский язык, сопроводив их обстоятельным научным комментарием, но и сохранила в своих переводах стихотворную форму, что позволило нашим читателям получить такое же наслаждение, которое дает чтение хороших стихов на родном языке.
В первой половине 50-х годов Глускина занималась и современностью. По заданию дирекции вместе с филологом-японоведом Верой Васильевной Логуновой она работала над небольшой по объему монографией "Очерки истории современной японской демократической литературы". По отзывам других филологов института это совместное творчество двух авторов-филологов было нелегким: уж очень разными по своему жизненному опыту и чертам характера были эти женщины. Если А. Е. Глускина с молодых лет принадлежала к академической, преподавательской среде, то В. В. Логунова до своего прихода в институт прошла суровую школу армейской службы в годы Отечественной войны, что проявлялось в категоричности ее взглядов и оценок людей, а также в том принципиальном гражданском подходе к общественной жизни и научному творчеству, какой был свойственен в те годы многим коммунистам-фронтовикам. Поэтому кое-кто в институте высказывал поначалу сомнения в возможности совместного научного творчества этих соавторов, шутливо ссылаясь на то, что "нельзя запрячь в одну телегу коня и трепетную лань". Но Анна Евгеньевна и Вера Васильевна посрамили скептиков: их совместный труд был успешно завершен и вскоре издан в виде книги Издательством Академии наук.
В первой половине 50-х годов было положено начало многолетней и многотрудной работе японоведов-лингвистов Института востоковедения АН СССР над "Большим японо-русским словарем" - самым большим из японо-русских словарей, когда-либо издававшихся в нашей стране. В число инициаторов и активных исполнителей этого великого для советских японоведов начинания наряду с главным редактором словаря академиком Н. И. Конрадом и его супругой Н. И. Фельдман входили два других японоведа-лингвиста Института: Константин Алексеевич Попов и Николай Александрович Сыромятников. С первых же дней моего пребывания в институте с обоими из них у меня сложились хорошие отношения.
Помнится, что при первом же знакомстве Константин Алексеевич предложил мне свою помощь в случае каких-либо затруднений в переводе японских текстов на русский язык. Тогда такое предложение показалось мне несколько обидным: мне же самому после окончания института была присвоена специальность референта-переводчика японского языка. Но потом стало ясно, что никакой обиды для меня в словах К. А. Попова не было, так как по сравнению со мной он обладал несравнимо большим опытом переводческой работы и его знания японского языка намного превосходили те, которые я получил в студенческие и аспирантские годы.
В начале 50-х годов во внешнем облике К. А. Попова еще заметно чувствовалось влияние длительного пребывания в Японии, где он со времени войны работал как драгоман советского посольства и откуда вернулся в 1949 году. Его отличали от других сотрудников большая сдержанность в поведении, собранность, обязательность и пунктуальность в отношении служебных академических дел. Не было в нем, как у некоторых побывавших за рубежом соотечественников, ни напускной вальяжности, ни рисовки, ни желания выделиться своим внешним видом, зато была свойственна ему постоянная забота о здоровье и внутреннем комфорте. Пожалуй, среди других сотрудников института он более всех походил на образцового английского джентльмена, хотя его духовный мир был вполне русским.
Иначе выглядел и вел себя, его коллега лингвист-японовед Николай Александрович Сыромятников, с которым меня сблизила совместная работа в редакционно-издательском отделе. Это был человек большого темперамента, склонный интересоваться всем, что его окружало, рассказывать каждому встречному веселые истории и с увлечением заниматься таким, казалось бы, скучным вопросом как лингвистические теории. Правда, и о проблемах лингвистики он предпочитал говорить чаще с юмором, чем серьезно. Читая по долгу службы в редакционном отделе все лингвистические труды сотрудников института, он часто увлекался и начинал громко цитировать сидевшим с ним рядом работникам отдела те выдержки из их трудов, которые вызывали у него либо наибольшие возражения, либо наибольшие похвалы. На научных конференциях он ввязывался зачастую в различные споры и долго не мог после этого успокоиться. Зато по окончанию работы он нередко оставался допоздна в институте, чтобы поиграть в настольный теннис. Как шутливо злословили женщины-сотрудницы отдела, главной причиной таких задержек на работе была пустота в его домашней жизни: тогда Николай Александрович, несмотря на зрелый возраст, все еще не был женат и, по-видимому, скучал в своей квартире.
Долгое время по причине разбросанности своих научных увлечений Сыромятников, как и во всем другом, запаздывал в своих научных делах. Долгое время он не удосуживался защитить кандидатскую диссертацию, хотя это болезненно сказывалось на размерах его заработной платы. Но все эти странности характера Николай Александровича не мешали ему пользоваться в институте большим уважением за его научные достижения. Парадоксально: будучи одним из самых компетентных в теории языка японоведов-лингвистов, Сыромятников сравнительно слабо владел живым разговорным японским языком, что, несомненно, сковывало его в общении со своими коллегами из числа японцев, тем более что и многие японские лингвисты-теоретики также не были бойки в разговорах на иностранных языках. Но это обстоятельство отнюдь не умаляло его большого вклада как в создание японо-русских словарей, так и в исследования фонетики и особенностей грамматики японского языка.
Перечисляя имена японоведов старшего поколения, работавших в Институте востоковедения АН СССР в 50-х годах, считаю своим долгом упомянуть хотя бы коротко о замечательном знатоке японской истории и культуры Владимире Михайловиче Константинове, пришедшем в институт во второй половине 50-х годов незадолго до моего перехода на работу в редакцию газеты "Правда". В начале 30-х годов Константинов обладал всеми возможностями стать наряду с Конрадом и Невским звездой советского японоведения первой величины. Ведь редко кому из наших соотечественников довелось в молодости учиться в одном из престижных японских университетов и овладеть в полной мере японским языком. А судьба, казалось бы, несла Владимира Михайловича на своих крыльях: находясь несколько лет в Японии в качестве сотрудника военного атташата советского посольства, он прошел одновременно курс учебы в университете Васэда. Но крылья судьбы оказались предательски ненадежными: в злополучном 1938 году на него, одного из самых опытных знатоков Японии, беспричинно обрушилась тяжкая десница ежовского террора... Пришел Владимир Михайлович в институт в 1956 году после 18 лет пребывания в сибирских лагерях. Пришел в малознакомую ему среду научных работников, не утратив интереса к своей профессии японоведа, с большим багажом ранее накопленных знаний и со страстным желанием уйти с головой в научную работу, для которой у него были все необходимые предпосылки.
Это был безукоризненно воспитанный, мягкий, добрый и обаятельный человек. В своей научной работе он сразу же обнаружил нестандартное понимание своих задач, взявшись за такую тему, с которой никогда бы не справились большинство тогдашних молодых диссертантов-японоведов. Темой его исследований стало аналитическое изучение старой рукописи на японском языке, автором которой был японец Кодаю, спасенный русскими казаками при кораблекрушении у берегов Камчатки, проведший несколько лет в России, а потом возвращенный Адамом Лаксманом в Японию. В рукописи излагались впечатления Кодаю о жизни неведомой японцам северной страны - Российской империи. Будучи переведенной В. М. Константиновым на русский язык с соответствующими научными комментариями, эта рукопись стала уникальным вкладом в отечественное японоведение. Ее защита Владимиром Михайловичем в качестве кандидатской диссертации вылилась в подлинный триумф диссертанта: в 1960 году Ученый совет Института востоковедения АН СССР в виде исключения из всех утвержденных высшими государственными инстанциями правил сразу же присудил Владимиру Михайловичу степень доктора исторических наук.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Япония, японцы и японоведы"
Книги похожие на "Япония, японцы и японоведы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Игорь Латышев - Япония, японцы и японоведы"
Отзывы читателей о книге "Япония, японцы и японоведы", комментарии и мнения людей о произведении.