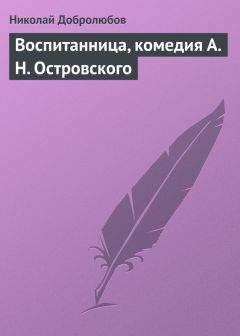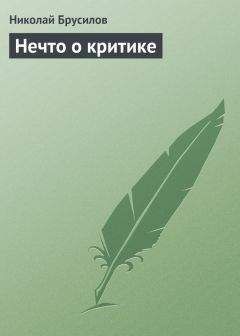Николай Чернышевский - Том 3. Литературная критика

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 3. Литературная критика"
Описание и краткое содержание "Том 3. Литературная критика" читать бесплатно онлайн.
В третий том Собрания сочинений русского революционера и мыслителя, писателя, экономиста, философа Н. Г. Чернышевского (1828-1889) вошла литературная критика.
Белинский по необходимости должен был начать дело с самого начала — с потопа и разделения язык, с объяснения того, что называется литературою, что такое называется поэтом, с подробных рассуждений о том, чем литературное произведение отличается от нелепой сказки или вздорного пустословия: все это нам нужно еще было узнать, все это возбуждало сомнения и недоумения, все приводило одних читателей в восторг, других в гнев; эти рассуждения, кажущиеся ныне отвлеченными, были в то время самою живою, насущною потребностью публики. Но да не возгордимся мы своими успехами: гордость пагубный грех; подумаем лучше о том, какими вопросами до сих пор мы сами интересуемся, будто важнейшими и живейшими: ведь книжка журнала составляет для самых живых из нас самое живое явление — да и то хорошо, потому что для многих из нас чуть ли не интереснейшая в газетах статья — номенклатура новых коллежских и надворных советников, — да и то хорошо: все-таки привыкают к печатной грамоте, все-таки убеждаются, что типографский станок хотя для чего-нибудь нужен.
Белинский должен был начать свое дело с самого начала, как начинал свое дело Ломоносов, — с рассуждений о том, что называется стихотворным размером и каков должен быть стихотворный размер; он должен был прежде всего объяснить нам, что такое литература, что такое критика, что такое журнал, что такое поэзия, и т. д. — Спору нет, что азбука — вещь отвлеченная: живого смысла еще нет в ее буквах; но для того, кто еще не знает их, настоятельнейшая потребность состоит в их изучении, и оно составляет самый живой и действительный вопрос его жизни. Так, для нашей публики было чрезвычайно хорошо то, что Белинский начал свои критические разборы в «Отечественных записках» не прямо с полного погружения в нашу действительность, а с общих рассуждений, которые по сравнению с характером его последующих статей могут назваться отвлеченными, но могут назваться таким именем также только по отвлеченному понятию о качествах критики вообще, а не по соображению действительных обстоятельств, которые, напротив, придавали им самое живое значение. Стоит только припомнить, какое сильное и живое действие производили они на публику и литературу, и мы убедимся, что именно то было нужно, что делал он.
Да и для самой критики Белинского нужно было, чтобы она довольно долго сосредоточивала свое внимание на теоретических вопросах: именно тем, что непоколебимо утвердилась в общечеловеческих понятиях, она приобрела силу проницательно и верно смотреть на явления нашей действительности. В одной из последних своих статей Белинский отвечает на вопрос, возбужденный исключительными поклонниками нашей народной поэзии: не лучше ли было бы для нашей литературы, если б она началась прямо в духе народности, а не была сначала простым отражением западной европейской поэзии? Не лучше ли было бы, если б Ломоносов, вместо того чтоб изучать оды Гюнтера, изучал наши народные песни? — Из этого не произошло бы ровно никаких последствий не только полезных, но и ровно никаких. В том именно и состоит заслуга Ломоносова, что он познакомил нас с литературою; а если б он вздумал писать в духе народных песен (кроме того, что это было для него чистою невозможностью), он не дал бы нам ровно ничего нового и интересного, и его произведения остались бы так же чужды историческому развитию нашей литературы, как песни сибирских казаков о битвах с силами богдойскими (богдыханскими), сочиненные в духе песен о Владимире: они ровно ничего к ним не прибавили и ни на шаг не подвинули нашего развития. Только потому и мог впоследствии Лермонтов написать песню о купце Калашникове, что Ломоносов писал оды в роде Гюнтера, Карамзин повести в роде Мармонтеля, Пушкин поэмы в роде Байрона. Конец именно потому и конец, что он не похож на начало, — стало быть, начало должно же отличаться от конца, — иначе не было бы ни целей, ни стремлений, ни истории{*}.
{* «Но каким же чудом — спросят нас — внешнее, абстрактное заимствование чужого и искусственное перенесение его на родную почву, — каким чудом могло породить оно живой органический плод? — В ответ на это скажем, решение этого вопроса, без сомнения, интересно; но нам нет дела до него; для нас довольно сказать, что так, именно так было, что это исторический факт, достоверности которого не может и подумать опровергать тот, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтоб слышать. Писатели, в которых выразилось прогрессивное движение через освобождение литературы русской от ломоносовского влияния, нисколько не думали об этом; это делалось у них бессознательно; за них работал дух времени, которого они были органами. Они высоко уважали Ломоносова, как поэта, благоговели перед его гением, старались подражать ему — и все-таки больше и больше отходили от него. Разительный пример этого — Державин. Но в том-то и состоит жизненность европейского начала, привитого к нашей народности Петром Великим, что оно не коснеет в мертвой стоячести, но движется, идет вперед, развивается. Если бы Ломоносов не вздумал писать од по образцу современных ему немецких поэтов и французского лирика Жан-Батиста Руссо, не вздумал писать своей «Петриады» по образцу виргилиевой «Энеиды», где, вместе с Петром Великим, героем своей поэмы, сделал действующим лицом и Нептуна, засадив его с тритонами и наядами на дно прохладного Белого моря; если бы, говорим мы, вместо всех этих книжных, школярных несообразностей, он обратился бы к источникам нашей народной поэзии — к «Слову о полку Игоревом», к русским сказкам (известным теперь по сборнику Кирши Данилова), к народным песням, и, вдохновленный, проникнутый ими, на их чисто народном основании, решился бы построить здание новой русской литературы: что бы тогда вышло? — Вопрос, по-видимому, важный, но в сущности препустой, похожий на вопросы вроде следующих: что было бы, если бы Петр Великий родился во Франции, а Наполеон — в России, или что было бы, если бы за зимою следовала не весна, а прямо лето? и т. п. Мы можем знать, что было и что есть, но как нам знать, чего не было или чего нет? Разумеется, и в сфере истории все мелкое, ничтожное, случайное могло б быть и не так, как было: но ее великие события, имеющие влияние на будущность народов, не могут быть иначе, как именно так, как они бывают, разумеется, в отношении к главному их смыслу, а не к подробностям проявления. Петр Великий мог построить Петербург, пожалуй, там, где теперь Шлиссельбург, или, по крайней мере, хоть немного выше, т. е. дальше от моря, чем теперь; мог сделать новою столицею Ревель или Ригу: во всем этом играла большую роль случайность, разные обстоятельства; но сущность дела была не в том, а в необходимости новой столицы на берегу моря, которая дала бы нам средство легко и удобно сноситься с Европою. В этой мысли уже не было ничего случайного, ничего такого, что могло бы равно быть и не быть, или быть иначе, нежели как было. Но для тех, для кого не существует разумной необходимости великих исторических событий, мы, пожалуй, готовы признать важность вопроса: что было бы, если б Ломоносов основал новую русскую литературу на родном начале? — и ответим им, что из этого ровно ничего не вышло бы. Однообразные формы нашей народной поэзии были достаточны для выражения ограниченного содержания племенной, естественной, непосредственной, полупатриархальной жизни старой Руси; но новое содержание не шло к ним, не улегалось в них; для него необходимы были и новые формы. Тогда спасение наше зависело не от народности, а от европеизма; ради нашего спасения тогда необходимо было не задушить, не истребить (дело или невозможное, или гибельное, если возможное) нашу народность, а, так сказать, задержать на время ее ход и развитие, чтобы привить к ее почве новые элементы. Пока эти элементы относились к нашим родным, как масло к воде, у нас, естественно, все было реторикою: и нравы и — их выражение — литература. Но тут было живое начало органического сращения, через процесс усвоения, и потому литература после абстрактного начала мертвой подражательности двигалась все к живому началу самобытности». («Соврем[енник]», 1847, № 1, стр. 7–9.)}
В критике Белинского как бы повторилась вся история русской литературы. Полевой, Надеждин были представителями каждый только одного фазиса развития. Критика Белинского прошла, как мы видим, несколько фазисов, и, начав с отвлеченных понятий, доведенных до крайности вследствие споров с друзьями г. Огарева, она достигла совершенной положительности. Если сравнить статью об «Очерках Бородинского сражения», напечатанную Белинским в последней книжке «Отечественных записок» 1839 года, с статьею о «Выбранных местах из переписки с друзьями», напечатанною во 2-й книжке «Современника» за 1847 год, нас удивит безмерное расстояние, отделяющее первую от последней; мы не найдем между ними ничего общего, кроме того, что обе написаны с жаром задушевного убеждения, и написаны человеком очень даровитым; но дух и все содержание одной совершенно противоположны духу другой, как «Песня о Калашникове» составляет совершенную противоположность «Оде на взятие Хотина»; но как между Ломоносовым и Лермонтовым найдется связь, если мы будем изучать писателей, бывших им посредниками: нет нигде перерыва или пробела, всякий новый шаг вперед основывается на предыдущем, так и критика Белинского развивалась совершенно последовательно и постепенно: статья об «Очерках Бородинского сражения» противоположна статье о «Выбранных местах», потому что они составляют две крайние точки пути, пройденного критикою Белинского; но если мы будем перечитывать его статьи в хронологическом порядке, мы нигде не заметим крутого перелома или перерыва: каждая последующая статья очень тесно примыкает к предыдущей, и прогресс совершается при всей своей огромности, постепенно и совершенно логически[47].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 3. Литературная критика"
Книги похожие на "Том 3. Литературная критика" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Чернышевский - Том 3. Литературная критика"
Отзывы читателей о книге "Том 3. Литературная критика", комментарии и мнения людей о произведении.