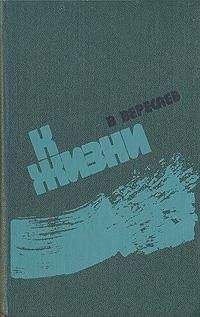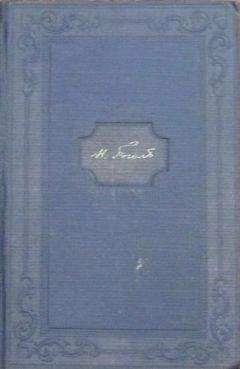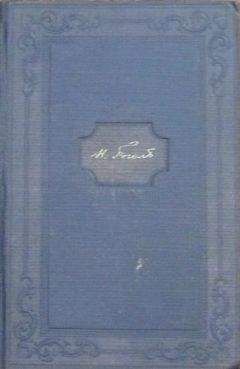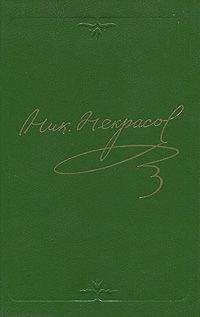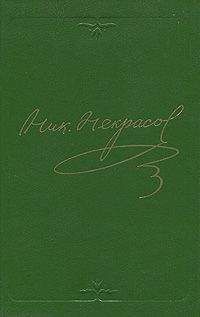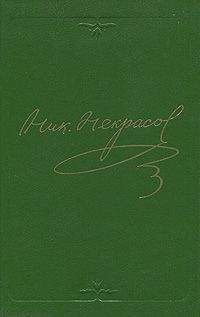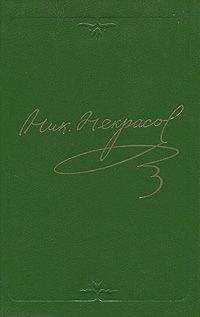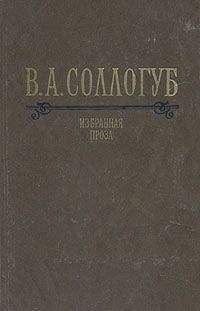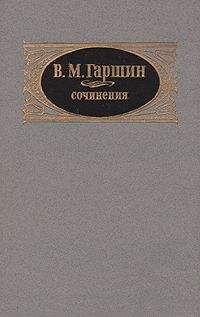Николай Некрасов - Том 7. Художественная проза 1840-1855
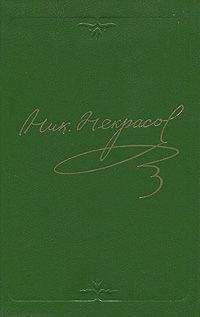
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 7. Художественная проза 1840-1855"
Описание и краткое содержание "Том 7. Художественная проза 1840-1855" читать бесплатно онлайн.
В седьмой том вошли прозаические повести и рассказы Некрасова, опубликованные при жизни автора. Хронологические границы тома — 1840–1855 гг. — охватывают период жизни писателя от первого неудачного выступления в литературе (поэтический сборник «Мечты и звуки») до несомненного признания, когда имя его утвердилось в истории русской поэзии (выход в свет «Стихотворений» 1856 г.). Таким образом, время большой и упорной работы Некрасова-прозаика стало и временем роста и совершенствования его поэтического таланта.
В данной электронной редакции опущен раздел «Другие редакции и варианты».
— А что, господа, ведь, говоря откровенно, если есть у нас теперь во всем Петербурге даровитый писатель, так это Дмитрий Петрович, — сказал драматург-водевилист.
— Совершенно справедливо, — отвечал длинный поэт. Белокурый фельетонист нахмурился.
Хлыстов хотел что-то сказать, но, вспомнив про свою доморощенную новую поэму, прикусил губу и посмотрел с испугом на драматурга-водевилиста. Надобно заметить, что драматург-водевилист был в некотором роде «органом» Дмитрия Петровича и исправлял при нем должность, за которую в школе некоторых мальчишек товарищи зовут фискалами. Он решительно был убежден, что гениальнее Дмитрия Петровича не было человека и никогда не будет, и считал для себя счастием даже дышать одним с ним воздухом.
В то самое время как, в ожидании сигнала к приступу, отчаяние начало овладевать голодными гостями, колокольчик звонко залился…
— Он! он! — вскричал драматург-водевилист. — Я узнаю его по звону колокольчика: никто так не может звонить!
— У него всё оригинально, — заметил поэт и опрометью бросился в прихожую.
Мы все последовали туда же, но уже было поздно: дверь в гостиную отворилась, и Дмитрий Петрович, в темно-оливковом фраке, с золотыми пуговицами, в голубом галстуке и цветном бархатном жилете, диагонально пересекаемом часовою цепочкою, явился перед собранием «тли». Посыпались поклоны, рекомендации, комплименты.
— Извините, милейший мой, — сказал издатель, обращаясь к хозяину с тою очаровательною любезностью, которая составляла отличительную черту его характера, — я немножко вас задержал! Что делать? Журналист не всегда может располагать собою по произволу, для него часто на белом свете черные дни…
Все захохотали, кроме фельетониста и лунатика, мирно спавшего в углу у окна.
«Помещу в водевиль!» — подумал водевилист-драматург.
— Если б я, господа, — продолжал Дмитрий Петрович, пристукивая миниатюрной ножкой, вооруженною каблуком изумительной вышины, — если б я, господа, поспешил в ваше приятное общество…
Некоторые сочли нужным поклониться.
— То заставил бы ожидать целые тысячи подписчиков…
«У тебя их и всего-то триста осемьдесят один, и с гратисами», — сказал фельетонист про себя.
— Что, — продолжал издатель, — согласитесь, было бы гораздо хуже. Как человек публичный, как журналист, я обязан пещись о исполнении моих обязанностей перед публикою: я не какой-нибудь… который наполняет свои фельетоны похвалами лавочкам и кондитерским, взимая с них контрибуцию сальными свечами и конфектами. Я понимаю свои обязанности… Добросовестность для меня дороже всего. Целое утро я был погружен в работу с головой и с ногами. Первые три часа я был превращен в машину, которую зовут автоматом-корректором: сличал слово с словом, строку с строкой; потом я должен был перечитать и поправить статьи сотрудников… Потом я взял перо и соорудил статейку о Задорине и о свойствах его…
— Опять? — вскричал водевилист-драматург с выражением величайшей радости, который в продолжение рассказа Дмитрия Петровича таял от восхищения и думал про себя: «Как говорит, боже мой, как говорит!»
— Да, опять, — отвечал издатель, — по случаю выходки его на статью мою о петербургских гуляньях. Вообразите, господа, вздумал смеяться надо мною, что там, в одном месте, говоря о себе, я упоминаю о недугах, сопряженных с трудным званием журналиста, о геморрое…
— Прошу покорно, — сказал долговязый поэт обиженным тоном, — да ему-то какое дело!
— Да уж зато порядком же ему и досталось. Этот геморрой вгонит его в чахотку!
Вторичный взрыв смеха…
— Любопытно было бы прочесть, как вы его отделали, — сказал водевилист-драматург, делая масляные глазки издателю.
— К сожалению, статья уже в типографии; вы знаете, журналисту некогда долго носиться с своими статьями. Если хочешь, чтоб были хороши, давай им вызревать в голове. А уж, кажется, ловко ему досталось… Вот, говорю, есть в нашей литературе шмели…
И затем издатель от первой до последней строки рассказал свою статью, делая в приличных местах пояснения. Он обыкновенно выучивал наизусть свои статьи, что, впрочем, не стоило ему большого труда, потому что делалось как-то незаметно: статья оставалась в памяти по прочтении в пятый раз, а издатель иногда читал свои статьи по пятидесяти раз в сутки и более, смотря по количеству приходивших знакомых. К чести его, однако ж, должно сказать, что он не имел обыкновения читать своих статей своему лакею и только в крайнем случае, когда решительно не было ни одного постороннего слушателя, читал их своему отцу, от природы глухому…
Затем приступили к завтраку, который был, как все холостые завтраки, из хорошего вина и плохих острот, шумен и продолжителен. Издатель-журналист был в особенности весел и, собравши около себя тесный кружок внимательных слушателей, с бокалом шампанского в руке, ораторствовал с тем неподражаемым остроумием, которое так нравилось поклонникам его дарования. Водевилист-драматург ловил каждое слово журналиста, таял от восторга и мотал себе на ус его остроты; хохот долговязого поэта возобновлялся через каждые пять минут и был сигналом к общему взрыву мелких гостей, считавших за счастие восхищаться остроумием дорогого гостя. Актер, имевший в виду пьесу для бенефиса, в любезности и внимательности к оратору превзошел самого себя. Разговор, разумеется, вертелся около театра и литературы.
— Литература наша, — говорил Дмитрий Петрович, поправляя очки и прихлебывая шампанское, — в настоящее время похожа на толкучий рынок… где на грязном лотке уродливой торговки лежат яблоки свежею стороною кверху, а гнилая тщательно скрыта; глядя на них, можно ошибиться, но… — Тут он быстро повернулся на одной ножке и закричал: — Человек! Дай, братец, мне еще желея, только давай не жалея!..
Раздался оглушительный хохот, продолжавшийся несколько минут.
— Какой человек! Какой человек! — сказал водевилист-драматург длинному поэту и с чувством пожал ему руку.
— Но, — продолжал издатель, когда тишина восстановилась, — попробуй взять хоть одно из этих яблок в руки, и обман тотчас откроется… Вы купите десять яблок за цену, которую должно бы заплатить за три… Но, увы, ваши десять не стоят и одного: ваши десять в червях!
Страшный взрыв хохота.
— Конечно, литературы нашей нельзя сравнивать с гнилыми яблоками в отношении ценности книг, — продолжал оратор, торопясь поправить обмолвку, в которую вовлекла его острота, — но ценность в сторону… Пусть бы уж не жалели нашей наличности: ценность имеет влияние только на личности (хохот), индивидуумы, как говорят наши доморощенные философы (хохот), а литература все-таки шла бы вперед путем совершенствования… Пусть уж было бы дорого, да мило! А то дорого, и так дурно, что просто порядочному человеку может сделаться дурно!
Опять хохот.
«Всё, решительно всё помещу в водевиль!» — подумал раскрасневшийся от вина и улыбающийся от восторга водевилист-драматург и сказал, смотря на издателя с чувством благоговейного изумления:
— Вы сегодня, Дмитрий Петрович, превзошли самого себя!
— Бывают на меня такие минуты, — скромно отвечал оратор. — Слова так сами и льются. На днях нас, вот с Ипполитом Сергеевичем (оратор указал на одного из гостей), затащил к себе книгопродавец Крикунов; я сказал, я думаю, пятьсот каламбуров на дне… то есть, господа, не на речном или морском дне… (хохот). Вхожу к нему по темной лестнице в четвертый этаж и говорю: «Мы прибыли для вашей прибыли» (хохот). Потом оглядываюсь, чуть по достаю головой до потолка и говорю: «Вы, почтеннейший, Живете вместе и высоко и низко» (хохот). «Да-с, тово-с, — говорит он облизываясь. — Хи! хи! хи! Не прикажете ли сначала водочки-с! — говорит он. — Настойка отличнейшая-с, с перцем-с, из мяты!» — «То-то, — отвечаю я, — как у вас сторы измяты!» (хохот). Ну, словом, так каламбур за каламбуром и вырывался…
Разговор о литературе был забыт. Журналист-издатель пересказал до пятидесяти плоскостей, произнесенных им на завтраке у книгопродавца, и каждая была встречена общим одобрением. Пошло дело на каламбуры: водевилист-драматург с сильно бьющимся сердцем пересказал неведомо откуда пришедший ему в голову каламбур касательно «точности» и «неточности», произнесенный им выше.
— Каламбуры, — заметил Дмитрий Петрович, — на русском языке чрезвычайно трудны; отечественный язык наш очень богат, для каждого предмета он имеет отдельное название, а для иного два, три и четыре. Иное дело французский язык: часто пять или более предметов носят то же название, и вся разница в одной букве или в каком-нибудь незаметном оттенке произношения. Оттого там каламбуры чрезвычайно легки. У нас напротив. Только вникший в дух русского языка, изучивший его во всех тонкостях, способен по временам открывать те редкие соотношения слов и созвучий, которые производят смех в слушателях.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 7. Художественная проза 1840-1855"
Книги похожие на "Том 7. Художественная проза 1840-1855" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Некрасов - Том 7. Художественная проза 1840-1855"
Отзывы читателей о книге "Том 7. Художественная проза 1840-1855", комментарии и мнения людей о произведении.