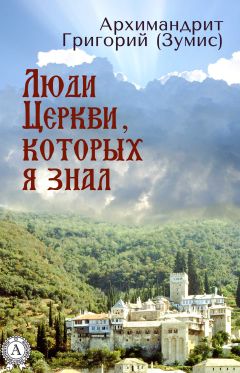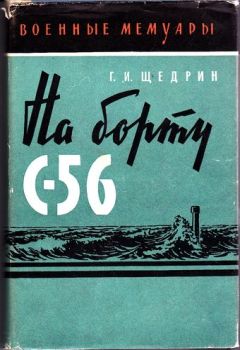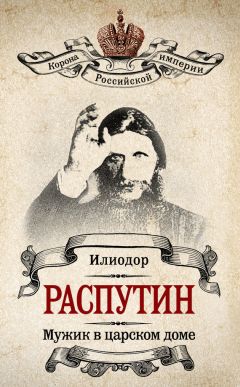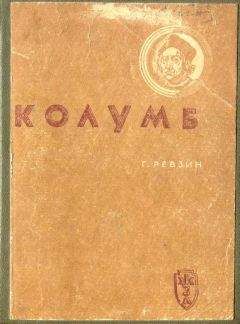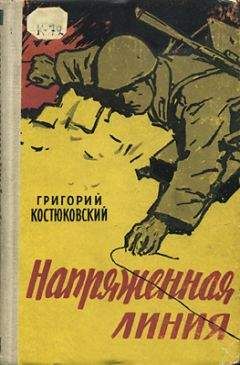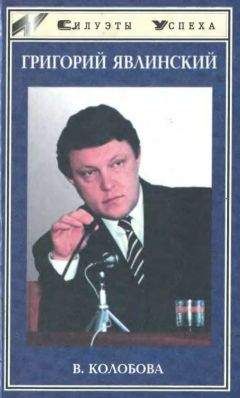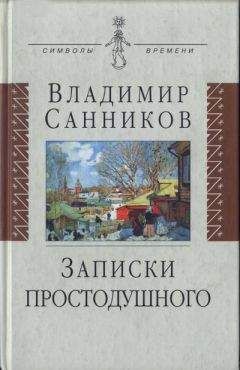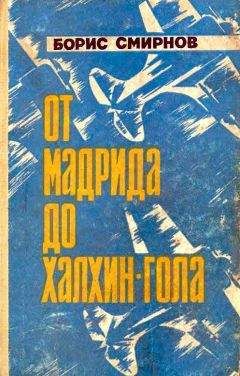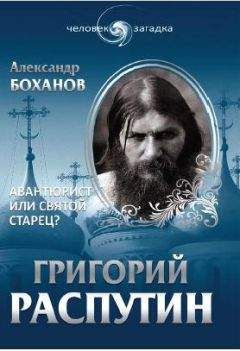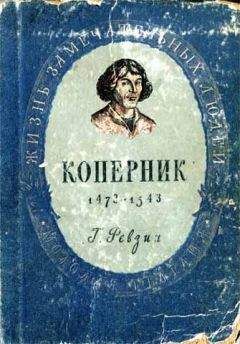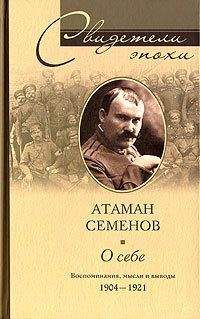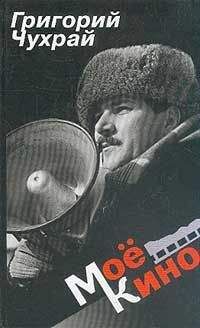Григорий Померанц - Записки гадкого утёнка
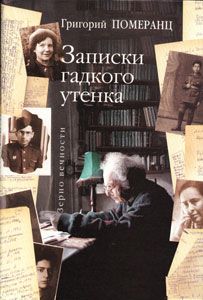
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Записки гадкого утёнка"
Описание и краткое содержание "Записки гадкого утёнка" читать бесплатно онлайн.
Известный в России, и далеко за ее пределами эссеист, философ и филолог выступает на этот раз с мемуарной прозой. Григорий Померанц пережил и Сталинград, и лагеря, и диссидентство, но книга интересна не только и не столько событиями, сколько рожденными ими мыслями и чувствами. Во взлетах и падениях складывается личность человека, и читатель вступает в диалог с одним из интереснейших современников и проходит вместе с автором путь духовного труда как единственную возможность преображения.
Но еще раньше у нас с Виталием открылось новое общее поле деятельности: капустники. Как-то вдруг возникло сознание, что зигзаги Никиты скорее расшатывают режим, чем укрепляют его, и отдельные хамские выходки заслуживают только смеха. Заговорило „армянское радио“. Интеллигенция, смеясь, прощалась со своими страхами. С какого-то капустника Виталий принес частушку:
Мы с Пал Палычем вдвоем
Обнаглели — и поем…
И мы с Виталием обнаглели. В 1961 году читался у нас доклад о Кубе. Там, дескать, старое переплетается с новым. Например, по-прежнему устраиваются конкурсы красоты, но при этом учитываются и производственные показатели. Мы переглянулись с Виталием и секретарем комсомольской организации Игорем Добронравовым и начали давиться от смеха. В тот же вечер решено было устроить капустник „выборы мисс ФБОН“ и по производственным показателям выбрать Б-ву (пожилую и некрасивую, но очень деловую даму). Потом Б-ву пожалели, производственные показатели были забыты и на первое место вылезла опасность культа мисс ФБОН. Выбрать королеву просто, но попробуйте ее переизбрать, это может оказаться и вовсе невозможным, как показывает пример недавнего прошлого… (долгая пауза) в Португалии, Греции и других капиталистических странах. Королева будет стареть, но повсюду ее портреты в блеске красоты, а юных соперниц ссылают в книгохранилище на каторжные работы… Всего в своей предостерегающей речи уже не помню, но смеха было много. Культ личности я описал довольно подробно. Виталий, потерявший здоровье в проверочных лагерях после выхода из окружения, играл роль капустного прокурора, наш общий друг Василий Николаевич Романов, сидевший еще в 1934–1937 годах, тоже что-то острил… В конце концов нескольких девушек признали одинаково хорошенькими и таким образом избрали коллективное руководство. Публика наполовину состояла из читателей библиотеки; наши шутки разошлись по нескольким институтам.
Следующий капустник был посвящен культуркампфу Никиты против Эрнста Неизвестного (впоследствии спроектировавшего памятник на Новодевичьем). Называлось это „Террор в ФБОН“. Свинарка Мария Заглада, судившая о живописи, была травестирована в Марию Зануду, в маске поросенка хрюкавшую перед пустой рамой (абстрактная живопись). Центральным номером были вызовы в кабинет следователя. Мне удалось убедить молодого ученого с довольно простым лицом (сына чекиста) сыграть роль следователя, а у него хватило чувства юмора согласиться. Роль свою он сыграл превосходно, совсем как на Лубянке. Являлись мы к нему с парой белья под мышкой. Моя жена говорила, что ей было совсем не смешно, а страшно, но хохот был гомерический. Дня через два Никита выступил с разгромной речью против абстракционизма. Молва, перепутав, посчитала наш капустник прямым ответом на его речь. Но до такой наглости мы не доросли.
Когда „пошел Никита юзом“[9], я спросил Виталия: „Где будет какой-нибудь интересный доклад или дискуссия?“ Он ответил: „Сегодня в Институте истории — доклад Елены Михайловны Штаерман о циклических теориях исторического процесса“. Циклические так циклические. Мы отпросились у заведующей отделом и пошли в буфет…
Пока Виталий стоял в очереди за винегретом, я присел за столик и набросал на каталожной карточке несколько мыслей по поводу циклических теорий. С этим идейным багажом мы поехали в Институт истории и стали слушать. Елена Михайловна долго, часа полтора, крутилась вокруг высказываний Маркса, Энгельса, Ленина. Кончила она примерно на том, с чего начала: что классики марксизма кое-что о циклических теориях говорили, но ничего определенного из их высказываний не вытекло. А отойти от цитат и прямо сказать, что она сама думает, докладчица не решилась.
Когда Елена Михайловна кончила, председатель спросил: „Кто хочет выступить?“ Все молчали. Никто не решался ступить на не огороженное цитатами поле. Я поднял руку — и мне сейчас же дали слово.
Опыт публичных выступлений у меня был только один: капустный. И в Институте истории, после архиосторожного доклада, я выступил так:
— По-моему, есть два типа циклических движений. Первый случай: обезьяна накладывает друг на друга ящики, чтобы достать банан. Накладывает неумело, ящики разваливаются, и приходится начинать заново. Это модель циклизма на основе невыполненной исторической задачи. Второй случай — колебания моды. Юбки укорачиваются до предела, а когда предел мини достигнут, начинается движение в обратную сторону, до предела макси. Это модель циклизма на основе выполненной исторической задачи.
Председатель, М. Я. Гефтер, спросил: „Нельзя ли поближе к истории?“ — „Пожалуйста“, — ответил я, и дал несколько заранее припасенных примеров: из истории доколумбовой Америки, Французской революции, древнего Китая и т. п. Когда я кончил и сходил с трибуны, Виталий сидел затылком к кафедре. Потом он мне объяснил: я смотрел, не собираются ли тебя линчевать. Но линчевать меня не стали. Только удивленный Гефтер спросил во время перерыва Виталия: откуда Померанц знает про Цинь Ши-хуанди? Виталий откровенно ответил: „Это я ему рассказал“.
Так начались мои попытки вклиниться в дискуссии, которые велись в институтах Академии наук, и превратить их вялое течение во что-то вроде французской банкетной кампании 1847 года. Это была проба, эксперимент. Либо начнется цепной процесс, либо мой расчет неверен. Проверкой мог быть только опыт. Я приходил, садился, слушал. На что-то хотелось возразить. Начнут в голове мелькать мысли, я их набрасываю на каталожные карточки и прошу слова. Иногда выходило хорошо, иногда не очень, но своего я добился. В ноябре 1965 года меня пригласили сделать двадцатиминутный доклад на конференции „Личность и общество“ в Институте философии.
Никакого сговора ни с кем у меня не было. Я не знал, что будут говорить другие и кто будет в зале. Но обстановка сама по себе сложилась такая, как надо. Лед растопил Виталий своей речью о совести историка. Это была именно речь, а не научное сообщение. Он говорил, что ему стыдно назвать свою профессию: историк; что слово история стало синонимом лжи, бессовестной фальсификации, духовной продажности… Говорил горячо, проводили его аплодисментами, и когда я начал с известных стихов Наума Коржавина, зал сразу откликнулся (я это почувствовал)…
А потом, когда кто-то попытался возражать с позиций всепобеждающего учения, Лена Огородникова-Романова сравнила моих оппонентов с Шигалёвым: и они, дескать, начинают с идеи свободы и приходят к рабству.
Любопытно, что все три острые речи произнесли сотрудники ФБОН, библиографы, а не члены официального корпуса советской науки. „Библиограф — профессия неудачника“, — часто говорила Лена Огородникова. Судя по ней — профессия человека, и не искавшего удачи. Она умерла несколько лет спустя от инсульта, оставив несколько эссе, написанных в стол, и только три опубликованные статьи (в сборнике „Август 1914-го“ читают на родине“). Я до сих пор помню некоторые ее реплики в коридорах ФБОН. Лена была поэт реплики, то есть самого бескорыстного слова, брошенного, чтобы прозвучать и исчезнуть. Так и вся ее жизнь.
В 1966 году наши надежды подогрела культурная революция в Китае. Я еще раз использовал рубинскую концепцию раннего конфуцианства в статье „Размышляю о Циньском огне“, оставшейся ненапечатанной и впоследствии включенной в мою книжку „Неопубликованное“, Мюнхен, 1972. Какие-то надежды подавала и хозяйственная реформа. Либо она должна была провалиться (что и случилось), либо захватить и политику, и культуру. Что получится — было не совсем ясно. Разочаровала меня только весна 1967 года. Очень сильным ударом было чтение в апреле романа А. Солженицына „В круге первом“. Многое в романе захватывало, радовало, было то самое, что мне хотелось увидеть высказанным, напечатанным. И в то же время… Именно чужое в своем было невыносимо. Началось то направление оппозиционной мысли, которое сегодня господствует в эмиграции и которое меня глубоко отталкивает…
Вторая травма была реакция Москвы на шестидневную войну. Прага ликовала, в Варшаве интеллигенция завалила посольство Израиля цветами. В Москве — вялое и скорее враждебное недоумение.
В 1956 году я негодовал на Израиль за то, что он расколол мировое общественное мнение в дни будапештского кризиса. Но в 1967 году не было рабочих советов в Венгрии, не было союза Израиля с Англией и Францией, да и колониализма почти не было… На Синайском полуострове столкнулись демократия и тоталитаризм, и демократия победила. Это было ошеломительно, как победа греков под Марафоном. Но в Москве (за исключением очень узкого круга) не было самого желания свободы, тоски по свободе, радости за успех свободы. По этим впечатлениям легко было предсказать события 1968 года: всеобщий порыв к свободе в Чехии, движение интеллигенции в Польше, не поддержанное (тогда) народом — и отсутствие всякого движения в России (несколько диссидентских ласточек не делают весны).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Записки гадкого утёнка"
Книги похожие на "Записки гадкого утёнка" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Григорий Померанц - Записки гадкого утёнка"
Отзывы читателей о книге "Записки гадкого утёнка", комментарии и мнения людей о произведении.