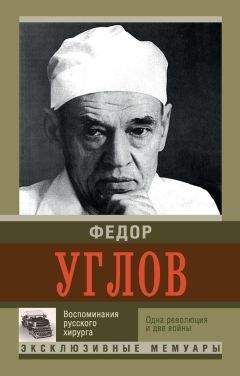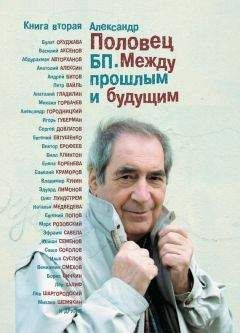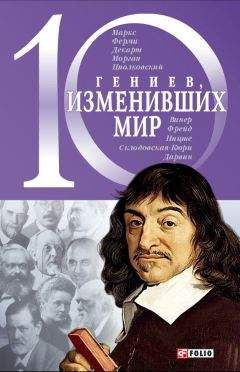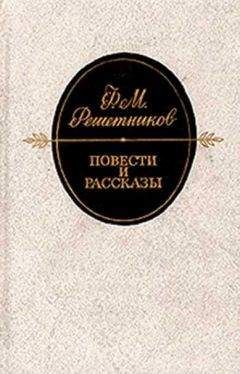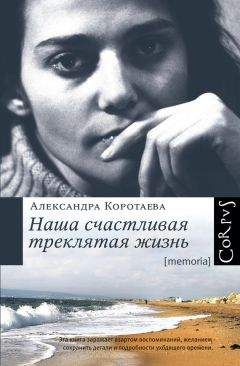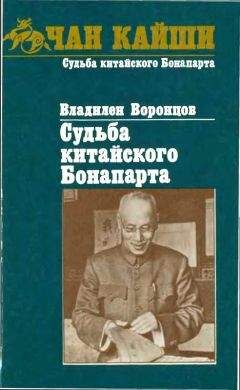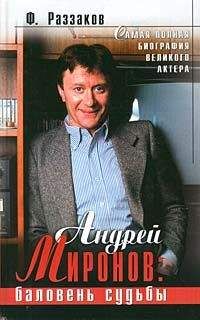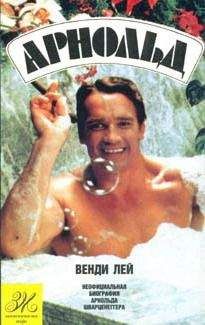Федор Углов - Под белой мантией
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Под белой мантией"
Описание и краткое содержание "Под белой мантией" читать бесплатно онлайн.
Выдающемуся хирургу нашего времени академику Фёдору Григорьевичу Углову выпала счастливая судьба быть в числе тех, кто не ограничивается лёгкими, проторенными дорогами, а ищет новые пути в борьбе за жизнь и здоровье людей.
Читатель его книги, написанной в первой половине 70-х годов, наверняка согласится с выводом автора: «Жить красиво — это значит никогда, ни при каких обстоятельствах не потерять своего человеческого достоинства».
— Необходима неотложная операция. Вы согласны?
— Согласен. Я и сам чувствую, что иначе не жилец…
В десять часов вечера мы вошли в операционную. В два часа ночи вышли из неё. Это были часы чудовищного напряжения, сомнений и ежеминутного риска. Повторная операция на том же самом месте во много раз сложнее, чем первая, которая влечёт за собой сращения, нарушение топографии органов и сосудов. Если же сюда присоединяется гнойная инфекция, то все усложняется ещё больше. В данном случае, помимо гнойного холангита, под печенью около общего желчного протока оказались гнойники, «вторгшиеся» во взаимоотношения тонких структур. Надо было отыскать этот проток, вскрыть и вставить в него широкую резиновую трубочку-дренаж. По нему желчь будет свободно отходить и как бы вымывать инфекцию. Задача в обычных условиях довольно простая, а здесь почти непосильная: доступ к общему желчному протоку был закрыт сращениями, гнойниками и прочными рубцами. К тому же совсем рядом, интимно с ним спаянные, расположены важные сосуды — печёночная артерия и воротная вена, а также нижняя полая вена, «спрятавшаяся» глубже, в забрюшинном пространстве. Печёночная артерия не более 2–3 миллиметров в диаметре. Найти её в рубцах и спайках очень трудно, а если повредить — неминуемы некроз печени (омертвение из-за плохого кровообращения) и гибель больного. Воротная вена — это крупный сосуд 1–1,5 сантиметра в диаметре, с тонкими стенками. Она находится сзади протока. Но при рубцовых перетяжках и её легко поранить. Словом, малейшая неосторожность чревата смертельной опасностью, а неуверенные, робкие продвижения вперед ничего не дают. Мы не можем обнаружить желчный проток. Как же быть? Уходить из операционной? Расписаться в своей беспомощности? Значит, столь травматичное для больного и единственно возможное для его спасения хирургическое вмешательство было предпринято зря?..
Тревога нарастала, мешала трезво оценивать обстановку, сковывала движения. И больной-то необычный. Случись что, завтра подымется шум: «Углов зарезал нашего мэра». Может быть, прекратить поиски? Пусть умирает, только не на операционном столе… Но какой же ты тогда врач?! Ты перестраховщик, заботящийся о собственном благополучии. Больной так ждёт, так надеется, а ты, заведомо зная, что он погибнет без дренажа, бросил его, беззащитного, потому что побоялся ответственности. Нет, надо во что бы то ни стало добраться до этого окаянного протока! Взять себя в руки, удесятерить внимание…
Такие мысли, сомнения, страх, ужас, когда вдруг покажется, что ты пересёк «недозволенный» сосуд, как вихрь, проносились в голове, бросая то в жар, то в холод. Когда наконец общий желчный проток обнаружили, вскрыли и дренировали, мы все — и хирурги, и ассистенты — были мокры от пота… Из операционной выходили, едва передвигая ноги.
Домой я уехал в четвёртом часу ночи. Жена встретила с испугом: «Что случилось? Ты бледен и осунулся. Как больной?» В одиннадцать утра я уже опять был у его постели…
Выздоровление затянулось. Долгих два месяца, изо дня в день я ездил в больницу к Сизову, как на вторую службу. Процесс очищения желчных путей от коварной инфекции требовал, кроме правильной тактики хирурга, внимательного наблюдения и безукоризненно точного выполнения назначений, ещё и времени.
Однажды, когда у Александра Александровича появилась температура и мы возились два часа, чтобы наладить дренаж, главный врач предложил:
— Может быть, нам собрать консилиум, пригласить специалистов из Москвы?
Я всегда ратовал за то, чтобы лишний раз посоветоваться со специалистами. Но тут попросил отсрочку. Неизвестно, кто приедет, какие даст рекомендации. Длительное время больной балансировал на грани жизни и смерти в состоянии неустойчивого равновесия, и я очень боялся, что один неверный шаг — и будут сведены на нет и наша операция, и весь наш уход.
Когда же клиническая картина, словно нехотя, стала меняться в лучшую сторону, консилиум состоялся. В нём приняли участие опытные московские хирурги — профессора Розанова и Маят, хорошо знакомые с печёночной патологией. Внимательно осмотрев Александра Александровича и ознакомившись с нашими назначениями, они записали в историю болезни, что полностью согласны с курсом лечения и ничего добавить не могут.
Выздоровление, однако, продвигалось ещё медленно. Ослабленность организма сказывалась на том, что отделение желчи, а следовательно, и процесс очищения желчных путей происходили не так быстро, как нам хотелось бы.
Вспомнив, что в Индии я приобрёл таблетки, содержащие ряд ингредиентов из натуральных веществ, в том числе знаменитое желчегонное «каскара сограда», я отдал Сизову целый флакон.
Рано или поздно, но настал момент, когда Александр Александрович поправился и вернулся на работу. Постепенно забылась опасность, которую удалось чудом избежать. А может, он так до конца этого и не сознавал. У меня же надолго сохранилось беспокойство за его здоровье.
Председатель горсовета снова с головой ушёл в дела, не жалея себя, не считаясь с тем, что у него уже был инфаркт. Часто можно было видеть, как он, оставив машину, идёт по городу пешком; заходит в школу, в детский сад, просто и по-доброму беседует с учителями, воспитателями, что-то записывает в свой блокнот. Сизов всегда охотно откликался и на наши просьбы, доброжелательно, где можно, помогал. Он заботился о нуждах всех лечебных учреждений города. Руководители их и теперь вспоминают его с теплотой и признательностью.
Сизов много работал: объём перегрузок создавал напряжение нервной системы, которое приводило к спазмам сосудов сердца. Инфаркт миокарда повторился. Оправившись, Александр Александрович не снижал трудового ритма. Постоянно занятый, он всё же иногда заглядывал в нашу клинику. Как-то сотрудники, собравшись у меня в кабинете, попросили его сфотографироваться с нами. И мы храним эту фотографию. Затем посещения пошли на убыль. Когда я встречал Сизова, видел на его лице следы большого переутомления. Уговаривал пощадить себя — он отшучивался. Людям его поколения, прошедшим войну, не свойственно думать о своих недомоганиях; долг для них — превыше всего.
Думать об этом, по-моему, должны окружающие, движимые высоким чувством гуманизма, уважения к ветеранам. Учитывая их заслуги, надо бы сказать каждому: «Вот что, друг, не злоупотребляй здоровьем, оно принадлежит не только тебе, но и народу. Лечись как следует. Ты ещё многое сможешь».
…В городе свирепствовала эпидемия гриппа. Александр Александрович температурил, но ходил на службу. А тут его пригласили в Москву — 8 мая 1967 года зажигался Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата. Бывший фронтовик, он не мог не поклониться памяти своих павших товарищей. Врачи не особенно препятствовали, и Сизов поехал.
Он стоял в Александровском саду у Кремлевской стены с непокрытой головой в непогоду. К вечеру — молниеносная форма пневмонии, и в два дня его не стало…
Выслушав эту историю, Борзенко помолчал, потом задумчиво проговорил:
— Да, жаль, настоящий, видно, был человек… А кстати, Фёдор Григорьевич, любопытно было бы знать ваше мнение о ведомственных больницах. У них, бесспорно, есть свои преимущества но ведь они универсальны. Взять ту же терапию — туда поступают с заболеваниями сердца, лёгких, желудочно-кишечного тракта и прочее, и прочее. Трудно представить, что бывают эрудиты, которые одинаково хорошо знают все разделы своей специальности. Значит, в чём-то они достаточно сильны, в чём-то ориентируются хуже и будут лечить больных на соответствующем уровне. А особые случаи, по себе знаю, им совсем не по плечу. Правда, остаётся сеть консультантов — как штатных, так и «чужих», возможности привлечь любого узкого специалиста…
— моё глубокое убеждение, что судьба больного зависит не от консультантов, а от того, к какому лечащему врачу он попадёт. Судьба больного зависит от раннего диагноза, а за его правильность в ответе лечащий врач и заведующий отделением, именно те, кто повседневно наблюдают пациента. Теперь представьте, что что-то важное упущено. Никто и не догадается запросить помощь до те пор, пока болезнь не войдёт в такую силу, когда никакой консультант уже ничего не сделает. Или сделает, но ценой громадного напряжения, в экстремальной ситуации.
Я частенько вспоминаю Евгения Васильевича Смирнова — консультанта той больницы, где лежал Сизов. Он был признанным авторитетом, к нему приезжали отовсюду для операций на желчных путях. А в ту тяжёлую для нас обоих ночь он побоялся брать вторично огромную нагрузку на свою нервную систему, ибо довольно пережил после первой операции. Побоялся ради блага больного, стремясь подстраховать себя присутствием ещё одного хирурга. Да и потом я постоянно ездил в больницу, не рискуя кому-либо перепоручить выхаживание Сизова, разумеется, в дополнение к остальным обязанностям, от которых меня никто не освобождал. Так что консультации — это ещё как посмотреть…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Под белой мантией"
Книги похожие на "Под белой мантией" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Федор Углов - Под белой мантией"
Отзывы читателей о книге "Под белой мантией", комментарии и мнения людей о произведении.