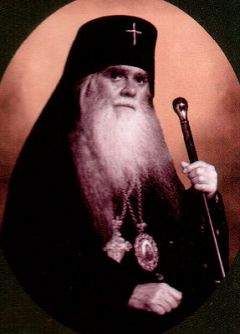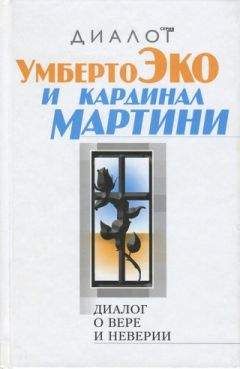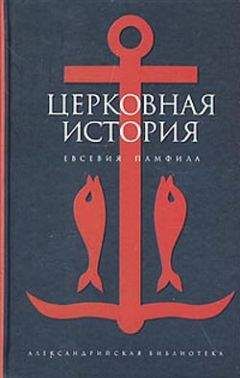Антон Карташев - Очерки по истории Русской Церкви. Том 1
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Очерки по истории Русской Церкви. Том 1"
Описание и краткое содержание "Очерки по истории Русской Церкви. Том 1" читать бесплатно онлайн.
КАРТАШЕВ Антон Владимирович (1875-1960), рус. правосл. историк, богослов и библеист. Именно он замыкает цепочку церковной академической мысли XIX — середины XX вв., ибо после него пока не создано нового всеохватывающего труда по церковной истории, вышедшего под одним авторским именем.
И что в Хазарии свв. Константин и Мефодий делали дело именно славянской миссии, это ясно сказано в так наз. «Итальянской Легенде», которую, как принято думать, писал Гавдерик еп. Веллетрийский. А последний, по письму Анастасия Библиотекаря к Гавдерику, виделся лично с свв. братьями и от них лично же мог узнать многое. Гавдерик пишет, что Моравский князь Ростислав, audiеns quоd faсtum fuеrat а philоsоphо in prоvinсia Chazarоrum, т. е. yслыхав о том, что сделано было Философом в Хазарской провинции, gеntis suaе соnsulеns, т. е. совещаясь со своим народом, отправил послов к императору говоря, что народ его оставил идолопоклонство и желал бы соблюдать христианский закон. Но они не имеют такого учителя (vеrum dосtоrеm talеm nоn habеnt), который бы научил их читать и обучил совершенно законy (qui ad lеgеndum…). Именно грамоты — письменности у них не было, хотя, конечно, крестившие их немецкие миссионеры объясняли новую веру на разговорном славянском языке, но как только приступали к грамоте, переходили на чтение по латыни (— qui ad lеgеndum еоs еt ad pеrfесtam lеgеm ipsam еdосеat, т. е. «чтобы научил их этому самому закону в совершенстве или — полностью). И Ростислав просит императора, чтобы тот направил в его края такого челозека, который бы сумел вполне показать этому народу веру и порядок закона Божественного и путь истины (qui plеnitеr fidеm еt оrdinеm divinuе lеgis еt viam vеritatis pоpulо illi оslеndеrе valеat)».
*** Очень прозрачно, что дело идет о живом народном славянском языке. Таким образом автор Паннонского Жития — мораванин отлично знал этот факт. Но его узкий патриотизм побудил его затуманить ясное сообщение первоисточника (может быть, греческого подлинника дневника Константина). Ламанский пишет: «Славянские Евангелия и Псалтырь он превратил в русьские, а это прилагательное (русьскими письмены) ему было подсказано встреченным им в первоначальном тексте Жития. Словом, рус или русин обратился у него в человека, беседовавшего не славянской беседой, которой были написаны имевшиеся при Константине Философе славянские Евангелие и Псалтырь, а русской беседой. Константину Философу было важно знать, в какой степени славянское наречие хазарских славян был близко к славянской речи славян македонских. Вникая в произношение знавшего по-славянски руса, Константин Ф. скоро уразумел отличительные особенности (гласных и согласных) русско-славянского языка. Таким образом, «русьские письмена» служат уликой и доказательством, что Константин Ф. с Мефодием, отправляясь в Хазарию, ехали по благословению патр. Фотия к той Руси, которая нападала на КПль и затем просила о посылке к ним христианского учителя».
Что переводы были сделаны до Моравской миссии (до 863 г.), об этом свидетельствует самое древнее (почти современное факту) показание Черноризца Храбра о создании славянских письмен Кириллом Философом. Это показание по всем признакам написано в 887 г., т. е. более, чем через год по смерти св. Мефодия. И сообщает нам даже год изобретения славянских письмен: «во времена Михаила царя греческаго и матере его Феодоры, иже правоверную веру утвердиста и поклонение честных икон и первую неделю святого поста православиую взакониста [ПО СЕМ СОБОРЕ (т. е. после собора 843 г. — торжества Православия) M Д (44) ЛЕТА] в лето от создания миру 6363». Тут нескладное нагромождение двух дат. Изображенная крупным шрифтом дата должна быть выделена из текста и поставлена строкой ниже, как дата, относящаяся совсем к другому факту. После слова «взакониста» нужно прямо читать: «в лето от создания миру 6363». За вычетом 5508 лет до Р. X., это равно 855-56 г. Итак этот год (855) и есть по Черноризцу Храбру памятная дата изобретения славянского письма. До Моравской (863 г.) и даже до Хазарской (861 г.) миссий. А уже когда-то после этих событий, самим Черноризцем Храбром или его учеником и переписчиком, приписано это явно нескладное вставочное дополнение, как бы личное размышление летописца, в связи с упоминанием о достопамятной дате торжества православия в 843 г. при царях Михаиле и Феодоре: «вот теперь идет уже 44-е лето от года торжества православия», т. е. 843+44=887-й г.
Но, возражают, что кроме КПльского летоисчисления в 5508 лет до Р. X. есть еще Александрийское в 5500 л. Вычитая эту цифру из 6363, получим 863 г., т. е. как будто славянские письмена (a с ними и все дело перевода библейско-церковных книг на слав. язык) были изобретены в самый год и момент Моравской миссии. Нелепость по существу такого предположения будет ясна из последующего. A в данном месте оно опровергается упоминанием совместо с Михаилом и соправительницы и матери его Феодоры. Между тем Феодора уже в 856 г. была свергнута с престола и заточена в монастырь. Упоминать ее имя в 863 г. для целей летоисчисления неуместно, да и политически недозволительно.
Эта же дата (855 г.), как дата начала славянской литературы, повторяется и другими славянскими летописцами. Например, в Хронографе № 453 Румянц. музея (1493 г.) на листе 439 об. читаем: «при сем царствии (Михаила), в E лето царства его, крещена бысть земля болгарьская и преложиша книги от греческаго языка на словенский язык. Кирилл Философ с Мефодием, а в лето 6363 (т. е. 855 г.) при Борисе Бьлгарстем».
Если мы теперь обратимся к тексту Паннонских Житий о самой миссии Моравской, то и там увидим истину затушеванной, но неудержимо проступающей сквозь язык изложения. Всякий нынешний непредубежденный читатель увидит в нижеприводимом тексте, что святые братья потому и позваны были в Моравию, что в их руках был уже готовый аппарат славянских переводов. Житие повествует: «веселящу же ся о Бозе Философу, паки другая речь приспе и труд немьний прьвыих. Ростислав бо Моравьский князь, Богом устим, сьвет сьтвори с князи своими Моравяны, и посла к царю Михаилу глаголя: людям нашим поганьства ся отврьгшиим, и по христианьски ся закон дрьжажиим, учителя не имамы таковаго, иже ны бы в свой язык истинную веру христианскую сказал, да ся быша и ины страны зряще подобили нам. Да посли ны, владыко, епископа и учителя таковаго. От вас бο на вься страны добр закон исходит.
Собрав же собор царь, и призва Константина Философа и створи и слышати речь и рече: вем тя трудна суща, философе, но потреба еснть тебе тамо ити. Сию бо речь не может ин никтоже исправити, якоже ты. Отвещав же философ: и труден сый и больн телом, с радостию иду тамо» (Аще имають боуквы в язык свой? Глагола же царь к нему… «аще ты хощеши, может сие тебе Бог дати… Шьдь же философ, на молитву ся положи… Вскоре же ему Бог яви, послушая молитвы своих раб. И абие сложи письмена, и начать беседу писати евангельску: испрьва бе слово и слово бе у Бога, и Бог бе слово и прочее…).
Даже удивительно, как автор ухищряется затемнить азбучные истины, которые вынужден упомянуть в рассказе о начале Моравской миссии. Мораванам нужен не только миссионер и учитель-катехизатор, но и епископ, т. е. совершитель богослужения на славянском языке. Рим этого не дает, а вот из Византии «на вься страны добр закон исходит». Значит, что мораване испрашивают себе не греческого катехизатора вместо латинского и не в греческом языке состоит «доброта закона, исходящего от греков на все страны». Что дело идет о продолжении уже начатой Византией славянской вероучительной и богослужебной миссии и только о приложении ее к новой территории и новому народу. Молва об этом стала известна в Моравии, и ни о чем другом мораване и не имели нужды ходатайствовать в Византии. Другими словами: святые братья Солунские уже стали всему славянскому миру известными. Потому-то и имп. Михаил, обращаясь к К. Философу, так прямо и говорит, что дело славянской миссии у них в Византии новое и уникальное. Других миссионеров для славян нет: «сию бо речь (это древне-славянское слово равно латинскому rеs в смысле предмета, а не слова только или названия предмета) не может им никтоже исправити, якоже ты». И дальше становится понятным, что больной и слабый Константин на эту миссию с самоотвержением и энтузиазмом отзывается: «с радостью иду тамо». И вдруг после этих прозрачных предпосылок всей миссии как продолжения и лишь нового приложения, того, что уже начато, вдруг детски-нелепый вопрос: «а есть ли у славян буквы?» Букв, по-видимому, нет. Константин по слову императора, как чародей языкознания, должен получить от Бога чудесную помощь. И дальше все многолетнее дело перевода Библии и богослужения осуществляется в одно мгновение перед отправкой в Моравию. Выдумка искусственного чуда. Узкий националист мораванин думает украсть примат великого подвига славянских апостолов во славу своего племени.
Когда дальше передается содержание ответного письма импер. Михаила к кн. Ростиславу, автор тоже, вероятно, немало слов и фраз искалечивает во имя своего национального тщеславия. Но все же истина снова выступает на первый план. Мораване опять выявляются как лишь вторичная точка приложения уже до них сложившегося в Византии дела славянской миссии. Императорское письмо звучит так: «Бог, иже велит всякому дабы в разум истинный пришел… Видев веру твою и подвиг, сьтвори ныне в наши лета, явль буквы в ваш язык, его же не бе испрьва было, «о токмо в перьвая лета (как будто намек на дату Храбра об изобретении письмен в 855 г., когда Михаил еще царствовал вместе с Феодорой, с 842 г. по 856 г.) да и вы причьтетеся великих языцех, иже славят Бога своим языком. И пути послахом, ему же я Бог яви, мужа честна и благоверна и книжна зело Философа, и сь прими дар больший и честнейший паче всякаго злата и сребра и камения драгаго и богатства преходящаго. И подвигнися с ним спешно. Утверди речь (rеs, т. е. самое дело) всем сердцем взыскати Бога.., И память свою оставляя прочиим родом, подобно великому царю Константину». Опять ясно, что вручаемый дар состоит не в одной азбуке и не в одних первых строках перевода евангелия Иоанна, а в целой национальной литературе.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Очерки по истории Русской Церкви. Том 1"
Книги похожие на "Очерки по истории Русской Церкви. Том 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Антон Карташев - Очерки по истории Русской Церкви. Том 1"
Отзывы читателей о книге "Очерки по истории Русской Церкви. Том 1", комментарии и мнения людей о произведении.