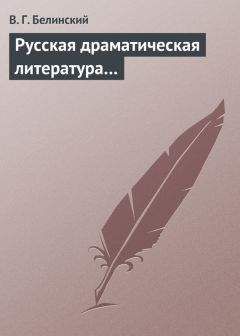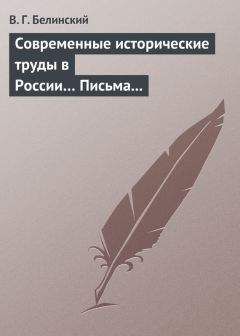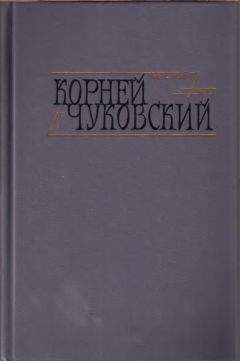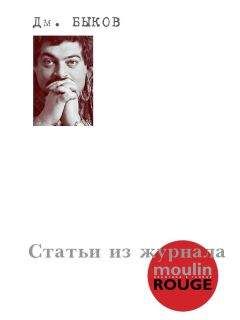Виктор Гюго - Том 14. Критические статьи, очерки, письма

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 14. Критические статьи, очерки, письма"
Описание и краткое содержание "Том 14. Критические статьи, очерки, письма" читать бесплатно онлайн.
В четырнадцатый том Собрания сочинений вошли критические статьи, очерки и письма Виктора Гюго, написанные им в различные годы его творчества.
Одно око поэта видит общество, другое — природу. Первое зовется наблюдением, второе зовется воображением.
Этот двойной взгляд, постоянно устремленный к двойной цели, рождает в глубине мозга поэта то единое и многообразное, простое и сложное вдохновение, которое называют талантом.
Поспешим сразу же заявить, что во всем только что сказанном, как и в том, что будет прочитано ниже, автор больше, чем любой его читатель, далек от мысли о себе самом. Скромный и взыскательный художник должен иметь право, потупив взор и обнажив голову, толковать искусство. Как бы ни был он неизвестен и незначителен, нельзя перед лицом чистых, вечных законов славы запретить ему это созерцание, в котором для него — вся жизнь. Человек живет дыханием, художник — упованием. И к тому же, какой бедный пастух, окруженный цветами, ослепленный звездами, не воскликнул хотя бы раз в жизни, погрузив босые ноги в ручей, из которого пьют его овцы: «Хотел бы я быть императором!»
А теперь продолжим.
В наши дни бессмертные творения созданы великими и благородными поэтами, которые лично и непосредственно вмешивались в каждодневные волнения политической жизни. Но, по нашему разумению, зрелый поэт, случайно или по своей воле оказавшийся в стороне от событий, хотя бы только на нужное ему время, и на все это время лишенный близкого общения с партиями и правительствами, мог бы также создать великое произведение.
Никаких обязательств, никаких цепей. Полная свобода в мыслях и в поступках. Он был бы свободен в своем желании добра тем, кто трудится, в своем отвращении к тем, кто является помехой, в любви к тем, кто полезен, в жалости к тем, кто страдает. Он был бы волен преграждать путь всякой лжи, с какой бы стороны, от какой бы партии она ни исходила; волен вытаскивать принципы из грязи корыстных интересов; волен сочувственно склоняться ко всем несчастным и преклонять колено перед всяким, кто исполнен самоотвержения. Никакой ненависти к королю и вместе с тем — привязанность к народу; никаких поношений правящим династиям — и утешение династиям павшим; никаких оскорблений угасшим родам — и симпатия к королям будущего. Он жил бы среди природы, он поселился бы в обществе. Следуя своему вдохновению, не имея никакой иной цели, как только мыслить и заставлять мыслить других, с сердцем, переполненным любовью, и взглядом, проникнутым спокойствием, он дружеским оком взирал бы в свой час и на весну в лугах, и на государя в Лувре, и на изгнанника в темнице. И если бы порою он порицал какой-нибудь закон человеческого кодекса, люди знали бы, что он проводит дни и ночи, изучая на непреходящих вещах тексты законов божественных. Ничто не нарушало бы его глубокого и сурового созерцания: ни шумный ход общественных событий, ибо он впитывал бы их в себя и разъяснял их смысл в своем творчестве; ни случайное соседство с чьим-то тяжким горем, ибо тому, кто привык думать, легче утешать; ни даже потрясения, вызванные собственными душевными страданиями, ибо когда разрывается наше сердце, мы сквозь него видим бога, и, поплакав, поэт стал бы размышлять.
В свои драмы, стихи и прозу, пьесы и романы он вложил бы историю и вымысел, жизнь народов и жизнь отдельных людей, высоко поучительное изображение царских преступлений, как в античной трагедии, полезное зрелище пороков, свойственных народу, как в старой комедии. Намеренно умалчивая о постыдных исключениях, он внушал бы почтение к старости, изображая старость всегда великой, сочувствие к женщине, изображая женщину всегда слабой; благоговение к естественным привязанностям, показывая, что всегда и при всех обстоятельствах есть нечто священное, высокое и доблестное в двух великих чувствах, на которых держится мир со времени Адама и Евы: в отцовстве и материнстве. Наконец он постоянно возвышал бы достоинство человеческого существа, показывая, что в каждом человеке, даже в самом пропащем и отчаявшемся, есть искра божья, которая в любой миг может разгореться от дуновения свыше и которую не может скрыть никакая зола и никакая грязь не в силах погасить; искра эта — душа.
В его поэмах были бы советы настоящему и контуры будущего, созданного его мечтой; то лучезарные, то зловещие отблески современных событий; пантеоны, могилы, руины, воспоминания; милосердие к бедным, нежность к несчастным; четыре времени года, солнце, поля, море и горы; взгляды, брошенные украдкой в святилище души, где, как сквозь приоткрытую дверцу часовни, можно увидеть на таинственном алтаре прекрасные золотые чаши веры, надежды, поэзии, любви; наконец там было бы правдивое изображение человеческого «я», а это, быть может, и есть самый значительный, самый великий, самый неоспоримый подвиг мыслителя.
Как и у всех поэтов, которые размышляют и постоянно возвышаются духом над вселенной, сквозь его творения, поэмы или драмы, сияло бы великолепие творенья божьего. Слышно было бы, как птицы поют в его трагедиях; видно было бы, как человек страдает среди его пейзажей. На первый взгляд — не было бы ничего более не похожего друг на друга, чем его поэмы; по существу — ничего более единого и связного. Творчество его в целом походило бы на землю: плоды всех сортов — одна первоначальная идея для всех замыслов; цветы всех видов — один сок, питающий все корни.
Он посвятил бы себя служению совести, как Ювенал, который дни и ночи ощущал присутствие «свидетеля внутри себя» — nocte die que suum gestare in pectore testem; [88] служению мысли, как Данте, называвший грешников в аду «теми, кто больше не мыслит» — le gente dolorose ch'anno perduto in ben del intelletto; [89] служению природе, как святой Августин, бесстрашно объявивший себя пантеистом и называвший небо «разумным существом» — coelum coeli creatura est aliqua intellectualis. [90]
И то, что создал бы этот поэт, этот философ, этот ум, — вся совокупность его творчества, все его драмы, все поэмы, все собранные вместе мысли, — представляло бы собой великую таинственную эпопею, отдельные песни которой звучат в каждом из нас, эпопею, к которой Мильтон написал пролог, а Байрон — эпилог: поэму о Человеке.
Эту величественную жизнь художника-просветителя, этот огромный труд, сочетающий философию с поэтической гармонией, этот идеал поэмы и поэта каждый мыслитель имеет право взять себе за образец, за цель, за предмет честолюбия, за жизненный принцип, за предел своих мечтаний. Автор говорил уже много раз: он один из тех, кто пробует свои силы, пробует упорно, честно и добросовестно. И только. Он не дает тому, что людям угодно называть его вдохновением, действовать наобум. Он упорно поворачивается лицом к человеку, к природе или к богу. В каждом вновь появившемся произведении он приподнимает уголок завесы, скрывающей его мысли; и проницательные умы уже заметили, быть может, какое-то единство в этом собрании произведений, столь не связанных и не похожих на первый взгляд.
Автор считает, что всякий подлинный поэт, независимо от мыслей, порожденных складом его ума, и мыслей, внушенных ему вечной истиной, должен вмещать в себе сумму идей своего времени.
Что до стихов, публикуемых сегодня, то о них он скажет немного. Какими бы он хотел их видеть — говорится на предыдущих страницах; каковы они в действительности — читатель увидит сам.
Если пренебречь некоторыми оттенками, вы найдете в этом томе тот же взгляд на вещи и на людей, что и в вышедших непосредственно перед ним сборниках, из которых один появился в 1831 году, второй — в 1835-м и последний — в 1837-м. Эта книга их продолжает. Только, может быть, в «Лучах и тенях» горизонт стал шире, небо синей, спокойствие сосредоточенней.
Некоторые стихотворения этого тома покажут читателю, что автор остался верен миссии, возложенной им на себя в «Прелюдии» к сборнику «Внутренние голоса»:
О вере не забыв, веками истребленной,
Когда устои вихрь колеблет вновь и вновь,
Поэт возводит две священные колонны:
Почтенье к старикам и к малышам любовь.[91]
Что касается вопросов стиля и формы, то о них он не будет говорить ничего. Люди, благоволящие читать то, что автор пишет, уже давно знают, что, если он и допускает иногда неясность и полутона в мыслях, он гораздо реже позволяет себе это в способе их выражения. Не отказывая в признании великой поэзии Севера, представленной во Франции замечательными поэтами, он всегда испытывал горячее пристрастие к южной, точной форме. Он любит солнце. Настольная его книга — библия. Вергилий и Данте — его божественные учителя. Все его детство, детство поэта, было долгим временем мечтаний, соединенных с пристальным изучением фактов жизни. Именно это сделало ум его таким, каков он есть. Впрочем, точность и поэтичность вполне совместимы. В искусстве, как и в науке, присутствует число. Алгебра есть в астрономии, а астрономия соприкасается с поэзией, алгебра есть в музыке, а музыка тоже граничит с поэзией.
Разум человеческий владеет тремя ключами, открывающими все: цифрой, буквой, нотой.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 14. Критические статьи, очерки, письма"
Книги похожие на "Том 14. Критические статьи, очерки, письма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виктор Гюго - Том 14. Критические статьи, очерки, письма"
Отзывы читателей о книге "Том 14. Критические статьи, очерки, письма", комментарии и мнения людей о произведении.